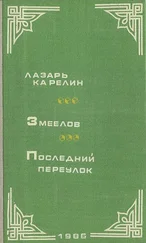— Не молчи, — попросил он. — Отвечай.
— Это так все неожиданно…
Он вдруг почувствовал, что очень устал. И вдруг поймал себя на мысли, что это не с ним все сейчас происходит, а с каким‑то персонажем в весьма заурядном сценарии.
— Ну, ну, а что же дальше? — насмешливо спросил он.
— Не знаю, — сказала она не своим, бесцветным, каким‑то сникшим голосом. — Понимаешь, я не знаю.
— Надо с кем‑то посоветоваться? С тётушкой Кнарик? Со всеми родственниками? С кем ещё?
— Вот ты смеешься…
— Я не смеюсь. По сценарию мне ещё чуток рано смеяться.
— По какому сценарию?
— Неважно, это я так, это проклятый подтекст затесался. Лена, пойдём на угол, там фонарь. Пойдём.
— Зачем?
— Я повешусь на нём, а ты будешь смотреть.
— Леонид, что ты болтаешь?
— Конечно, болтаю. Опять проклятый подтекст. Просто я хочу поглядеть на тебя, взглянуть в твои глаза. Тут темно. Пойдём.
— Не глупи. Ты какой‑то странный сегодня. Что у тебя на работе?
— На работе у меня о’кэй! Ты так и не ответила мне, Лена. Нет, лгу, ответила. Жаль только, что я не курю, нет у меня спичек.
— Лёня, ты уходишь?
— Как ты догадалась?
— Позвони мне завтра на работу. Слышишь?
— После совещания с родственниками? Лена, сбегай домой, принеси спички. Я хочу взглянуть на тебя.
— Замолчи, мне вовсе не смешно.
— Мне тоже. А почему, Лена, почему?
— Что?
— Почему ты не хочешь стать моей женой? Мне казалось… Значит, это все чепуха — все наши встречи, ну, все, все?..
— Ты не понимаешь…
— Так точно, не понимаю. Ну, что там ещё по сценарию? Ага, я должен резко повернуться и броситься бежать. И музыка, музыка… Бегу!
Леонид повернулся и побежал. Глупо? Конечно, глупо! Все глупо! И то, что он бежал, и то, что ему хотелось плакать, все глупо.
Он так и не остановился до самой гостиницы.
Ночью ему приснилась война. Накат над головой в блиндаже ходил ходуном. Было душно и страшновато, но ничего, он спал, на войне ему всегда хорошо спалось. Он спал и был рад, что немцы зря расходуют снаряды.
Наутро он узнал, что было землетрясение, крошечное, балла на три, тряхнуло только стены, качнуло люстры. На такие землетрясения тут не обращали внимания.
8
События на студии развивались с истинно кинематографической быстротой. Ну, как в вестернфильмах, в эпизодах погони. Всё завертелось, бешеный начался гон. Словом, студия заработала. И тому причиной был Денисов. Это он раздобыл для студии какие‑то деньги, вызволив из‑под ареста её банковский счёт. Это он сманил из Ташкента нового оператора, кажется, очень хорошего, плохого ведь не сманивают. Это он раздобыл и нужную для съёмок плёнку, совсем новый съёмочный аппарат, о котором раньше могли лишь мечтать, и тонваген, чудо–грузовичок, столь необходимый для звуковых съёмок на натуре, о котором даже и не мечтали. Всё прибыло, прилетело, прикатило в сказочно короткие сроки, двор студии заполнился новыми людьми, гостиничные коридоры стали будто коридорами студии. И всё это совершилось без крика, без излишних слезниц по телефону и телеграфу в Москву, без беготни с утра до ночи к республиканскому начальству. Денисов работал споро и радостно. На него приятно было смотреть, когда он — этакий канадский джентльмен — спозаранку появлялся на студии, улыбающийся, бодрый, невозмутимый. В кабинете он не засиживался, решения принимал на ходу и все помнил. Пообещал — помнил, приказал — помнил. Он был так разительно непохож на своего предшественника, человека медлительного и нетвёрдого в решениях, что студийцы вскоре же отдали Денисову свои сердца. Все, кто ни работал на студии, даже самые закоренелые скептики, все поверили в нового директора, поверив и в новую для себя жизнь. Словом, студия заработала.
И пришёл день первых съёмок. И настало утро…
Но прежде небольшое отступление: Владимир Птицин снова был принят на студию. Не на старое место, не на должность директора картины, а всего лишь на должность администратора. Но и это было счастьем. Для него — счастьем, для всех студийцев — доброй приметой. Новая полоса в жизни студии начиналась с поступка великодушного, которому сопричастны были все. Вдруг обнаружилось, что у Птицина нет врагов, что все ему сочувствуют, все его жалеют. Даже те, кто недавно ратовал за изгнание этой паршивой овцы, этого спившегося, нелепо увлёкшегося девчонкой неповоротливого толстяка. Позабылись злые слова, всеобщая нетерпимость сменилась жалостливым участием. О жалость, так ли ты добра, как кажешься? Не сродни ли ты чувству превосходства, уютненькому чувству собственной удачливости перед лицом чужой невзгоды?
Читать дальше
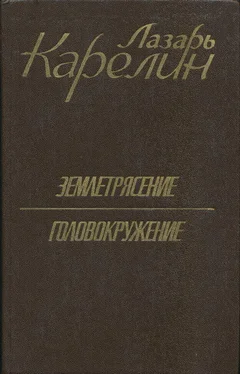





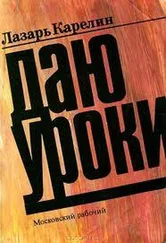

![Лазарь Карелин - Что за стенами? [сборник]](/books/386137/lazar-karelin-chto-za-stenami-sbornik-thumb.webp)
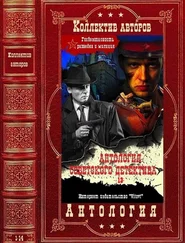
![Лазарь Карелин - Младший советник юстиции [Повесть]](/books/400310/lazar-karelin-mladshij-sovetnik-yusticii-povest-thumb.webp)
![Лазарь Лагин - Детская библиотека. Том 46 [Лазарь Иосифович Лагин]](/books/401001/lazar-lagin-detskaya-biblioteka-tom-46-lazar-io-thumb.webp)