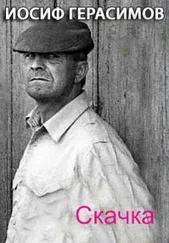Он посмотрел на нее, отложил в сторону.
— Да, она действует, — подтвердил он. — Но я сказал, что думал… Или это не так?
— Так, — ответил я. — А ты и сейчас считаешь — хорошо сделал, написав этот рапорт?
— Она меня не упрекала. Она все поняла.
— А я не про нее спрашиваю, я про тебя спрашиваю.
Он опять уставился на меня не мигая, потом спросил, медленно произнося слова:
— Закурить у тебя есть?
Я достал сигареты. Он не спеша зажег спичку, выпустил длинную струйку дыма, зажмурившись от наслаждения, и неожиданно беспомощно произнес:
— Я не знаю, Костя… Я все время думаю, я ничего не понимаю.
Вот тогда-то я и решил его спросить о самом главном, что меня мучало:
— Ты сам… за борт?
Он быстро затянулся несколько раз сигаретой, узкие его плечи вздрогнули, обрели прежнюю нервную суетливость, он отвернулся от меня и еще более растерянно проговорил:
— Не знаю…
— Так не бывает, — твердо сказал я. — Ты должен знать.
И я подумал: вытрясу из него, жестоко это или нет, хорошо или плохо, но он скажет, я заставлю его — ведь сейчас это самое важное.
— Там лежал матрац… — робко произнес он. — Я хотел его достать. Это для шезлонгов матрац. Я подумал: мне за него врежут, если он под дождем… И я оказался за леерными планками.
— И что? — Я говорил быстро, не давая ему возможности опомниться.
— Я никогда не боялся моря… Я всегда хорошо плавал.
— Что дальше было? — настаивал я.
Юра взглянул на меня и усмехнулся:
— Поскользнулся.
Я сразу почувствовал ложь.
— Почему ты не говоришь, Юрка? — закричал я.
— Ну хорошо… — сдавленно прошептал он. — Была такая минута… Может быть, меньше… я не помню… когда стало безразлично. Я всю ночь не спал… думал…
— О чем?
— Я не могу вспомнить… Я здесь, в госпитале, пытался вспомнить и не смог… Но это неважно. Было такое мгновение, когда стало безразлично. И захотелось умереть… Сразу… Немедленно… Но, может быть, потому я и поскользнулся? Сам бы не решился…
— Но ведь ты решился.
— Это только в то маленькое мгновение.
— Разве этого не достаточно?
Он подумал и сказал:
— Нет. Его недостаточно, потому что в другое мгновение я сразу поверил: мне нельзя умереть.
— Я ничего не могу понять, — сказал я.
— Я тоже не могу понять, — ответил Юра, и я видел, он со мной искренен. — Только знаешь, давай больше об этом не будем… Я сейчас лягу спать. Ты уходи…
— Хорошо, — сказал я и встал.
Из матросов в моей вахте был Саня Егорычев, молчаливый чубастый парень, с пышными рыжими усами под горбатым носом, которые вызывали восхищение всего мужского состава экипажа; волосы на голове у Сани были темно-русые, и медно-огненный цвет усов был неожидан и великолепен. Я давно знал все подробности его жизни, знал, что до армии он был рабочим сцены в знаменитом драматическом театре, отслужил три года на Северном флоте и снопа вернулся в театр. С ним дружны были актеры, потому что человеком он был добрым, помогал многим из них по домашним делам — кому полочку сделать, кому новый замок поставить. Да всегда в доме найдется что-нибудь такое, а актеры в этом беспомощны, к тому же часто сидели без денег, а Саня старался с них за такие услуги ничего не брать, и они платили ему дружбой, доверяли семейные тайны, и он о них молчал.
Служба на флоте заронила в него любовь к морю. Он поработал в театре два года, за это время женился на театральной портнихе и затосковал. С женой договорились: он уйдет в море на полгода. Он ушел и вот плавает третий год и единственно, о чем любит всегда говорить, это о жене своей.
Когда я на «Чайковском» впервые возвращался в родной порт, то наслушался от Сани таких хвалебных слов о его жене Наденьке, что ждал этой встречи с нетерпением. Бывает у моряков припортовая ностальгия; они терпят весь рейс, редко вспоминают дом, но, когда остается до порта каких-нибудь два-три дня, что-то рушится внутри и становится невыносимо, и эти несколько дней кажутся самыми длинными и самыми тяжкими из всех в рейсе, и даже очень молчаливые люди начинают подолгу говорить о доме. Так было и с Саней. Он говорил, как красива Наденька, какие стройные у нее ноги, какая улыбка и как пышны волосы, а встретила его на причале маленькая, похожая на мышонка женщина, совсем не такая, какую он мне нарисовал во время вахты. Но он побежал к ней, поднял на руки и долго самозабвенно целовал, а когда мы отошли от порта, радостно спрашивал: «А верно, она потрясающе красива?», и я с ним соглашался, потому что знал — он видел ее совсем иначе, чем я.
Читать дальше