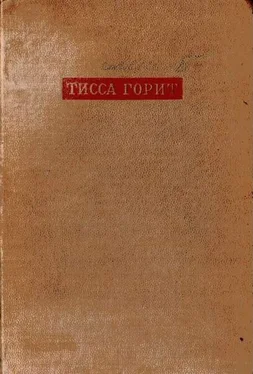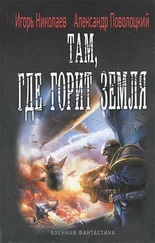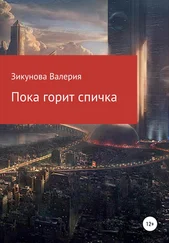Теперь же он сразу отодвинулся и схватил винтовку, словно ему угрожала опасность.
— Вы — офицеры, — сказал он враждебно.
— Чорта с два, офицеры, — ответил Анталфи. — Я уже сказал: мы — товарищи. Будь мы офицеры, нас сопровождали бы офицеры.
— Это раньше бывало. Ну, если вы не офицеры, чем вы можете доказать, что вы наши?
— Чем?
Я сунул ему под глаза руку. Уже больше двух недель я, по совету Анталфи, каждый день смазывал себе руки вазелином, но всякий, у кого хорошее зрение, сейчас же увидел бы, что мои ладони жестки не только от обращения с винтовкой.
Солдат посмотрел на мои руки — правую даже пощупал и, видимо успокоенный, снова отставил винтовку в угол.
— Я уже раз ожегся, — сказал он. — Один румынский солдат, уверявший меня, что он товарищ, залепил мне такую затрещину, что я вовек не забуду. И рука у него была пожестче, чем ваша… Этого мне недостаточно. Покажите-ка бумажку, если вы и впрямь товарищи.
— Такой бумажки мы показать не можем, такой у нас нет… Но мы сейчас сами убедимся, истинный ли ты товарищ, или только так болтаешь. Помолчи и послушай.
Не только русинский капрал, но и я сам с удивлением уставился на Анталфи. Он несколько минут задумчиво смотрел в пространство. Потом тихим голосом заговорил о Москве, о красноармейцах, о Ленине, о субботниках, о Кремле, о рабочих факультетах — о Красной Москве. Он рассказывал вполголоса, а мы молча слушали его. Чем больше оживлялся Анталфи, тем краснее становилось лицо русинского товарища. Он слушал с открытым ртом и от охватившего его волнения часто и прерывисто дышал, словно бежал перед тем по крайней мере целый час в полном вооружении.
— И это правда? — спрашивал он время от времени.
А Анталфи все говорил и говорил, и чем больше он говорил, тем увлекательнее становился его рассказ.
— Товарищ Ленин знает, как вое надо устроить, — с сияющим лицом сказал наш русинский товарищ, когда Анталфи умолк.
Мы все трое близко подсели друг к другу и долго не прерывали молчания.
На другой скамье лежал немец из Рейхенберга и громко храпел.
В Кошице, в полицейском управлении, мы долгое время просидели в общей камере. Так как никаких бумаг у нас не было, то никто о нас и не заботился. Нас ни разу не вызвали на допрос. Мы, пожалуй, пробыли бы там до страшного Суда, не приди в голову какому-то французскому генералу произвести поверку всем арестованным. Эта поверка была назначена на воскресенье, а потому уже в субботу надо было освободить из- под ареста всех тех, на кого должны были упасть взгляды столь высокопоставленной особы, обладавшей чувствительным сердцем. Один поручик-легионер занялся чисткой тюрем и арестных домов.
— А вы как сюда попали? — обратился он к Анталфи.
— Я — венгерский поданный, — заявил тот. — Помещик из окрестностей Будапешта. Мы с племянником, — он указал на меня, — бежали, в Словакию, от большевиков. Когда большевистская опасность миновала, мы хотели вернуться домой и зашли к жупану [17] Глава административного округа.
в городе Прессбурге. И тут — бог видит мое сердце! — не знаю из-за чего, вследствие какого-то недоразумения, нас арестовали, отняли у нас шесть тысяч долларов, наши золотые часы и потом под охраной жандармов привели сюда. С тех пор никто нашим делом не интересуется.
— Гм!.. Выдумано не плохо. Я просмотрю ваши бумаги.
— Будьте так любезны, — благодарным тоном сказал Анталфи.
Это происходило в четверг утром. В пятницу рано утром капрал-легионер сообщил нам, что нас обоих навсегда высылают из республики и чтобы мы сейчас же готовились к отъезду, — нас под конвоем повезут в Австрию.
— Почему не в Венгрию? — рассердился Анталфи.
Капрал-легионер засмеялся.
— Ну, понятно! В следующий раз вас вышлют туда, куда вам будет угодно. В следующий раз…
В десять часов утра мы уже сидели в вагоне. С нами был еще один арестант, которого отправляли в Австрию, — белокурый, высокого роста парень. Сопровождал нас маленький, коренастый сыщик, меньше всего опасавшийся того, что мы удерем, зато очень дрожавший за свою жизнь.
— Дома ждут меня шестеро ребят и больная жена, — рассказывал он в сотый по крайней мере раз за время нашего полуторадневного путешествия. — Шесть малюток останутся сиротами, если я паду жертвой служебного долга. Жена — эта несчастная, больная женщина — все говорит мне: «Вот увидишь, Рихард, с тобой еще случится несчастье, увидишь, тебя еще убьют. Откуда же могут знать все те, с которыми тебе приходится иметь дело, откуда же они могут знать, что ты не хочешь причинить им ничего дурного, что ты на редкость добрый человек, что таким строгим делает тебя служба, а не твое сердце?» Служба, господа, служба! Шестеро детей, больная жена — и такая служба! Да, мы переживаем плохие времена, В мирное время я был учителем, и когда меня в пятнадцатом году отпустили из армии, я продолжал учительствовать; теперь же, когда чехи закрыли нашу школу, я нигде не мог найти себе работы. Не мог же я допустить, чтобы умерли с голода мои шестеро детей. А моя жена! Эта несчастная…
Читать дальше