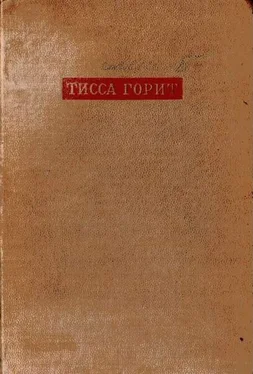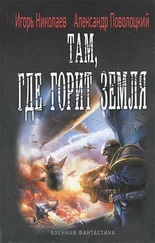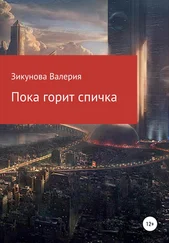Павел Тимар в сапожном мастерстве успевал быстрее, чем в партийной работе. Никогда не мог бы он подумать, что с ним произойдет нечто подобное. Гвозди в ботинки он мог уже вбивать с закрытыми глазами, и его одежда была пропитана запахом кожи так же, как когда-то запахом окиси железа. Но с партийной работой все еще не клеилось. Когда гусара, привыкшего при наступлениях и отступлениях к стокилометровым походам, снимут с лошади и он попадает в окопы, где недели тянутся без крупных событий и выиграть или проиграть можно лишь сотню-другую метров — гусар этот из кожи лезет вон. «Никогда не думал, что война может быть такой скучной», — жалуется, вылавливая с себя вшей, этот самый гусар после шестинедельного сидения в окопах.
Именно для этой-то скучной войны и нужны крепкие нервы!
Однажды вечером после работы Лаци и Тимар направились, по приглашению Шульца, в один из ближайших трактиров. Где бы ни бывали они вместе с Шульцем, Тимар всегда опасался, как бы старик не привлек к себе внимания: его высокий порыжевший котелок никак не вязался с синей рубашкой без галстука. Старик ни за что не хотел расстаться со своим головным убором.
— Вместе со мной старится, — посмотрим, кто дольше выдержит.
Половой, облаченный в старый, неизвестно откуда взятый фрак и цветную спортивную рубашку, поставил на стол четыре бокала пива. Четвертый бокал был предназначен кривому Бооди.
— Брынзу с гарниром! — заказал старый Шульц, пощипывая привычным жестом седоватую, коротко подстриженную бородку.
Искусно смешивая брынзу с гарниром и подливая в эту смесь немного пива, Шульц обратился к Бооди:
— Вот уже три месяца, товарищ Бооди, как ты освободился из Гаймашкер, а помимо фабрики я встречаюсь с тобой впервые. Чем же ты, собственно говоря, занят в свободное время?
С кислым выражением лица, уставившись глазами в одну точку, сидел Бооди на кончике некрашенного стула.
— Чем занят? — переспросил он, пожимая плечами. — Чем? Да ничем, собственно.
Глотнув пива, вновь повторил:
— Чем я занят? Слушаю плач жены.
— Гм…
Шульц на мгновенье приостановил операцию с брынзой.
— Почему же плачет твоя жена?
— Было бы странно, если бы она не плакала, — ответил Бооди, постукивая бокалом по столу. — Как ей не плакать, когда я вернулся с войны калекой? Сын мой (у меня семилетний сын) — он родился в тот день, когда умер Бебель. В честь Бебеля мы и назвали мальчика Августом. Так вот, мой Август… Все бедствия войны он выдержал, как железный, а мира, этого проклятого мира, чорт бы его побрал, он не выдержал. Кашляет — и как кашляет! Весной мы, наверно, прочтем в «Непсава»: «Унесла его пролетарская болезнь». Ну, как тут не плакать жене?
Старик Шульц продолжал свои махинации: ловкими движениями намазывал он на хлеб брынзу и раскладывал перед каждым бокалом по бутерброду.
— Ешьте!
Но сам он не ел. Покончив с работой, он повернул свое морщинистое лицо к Бооди и, добродушно покачивая головой, спросил:
— Сколько лет ты знаешь меня, товарищ Бооди?
— Двенадцать… нет, скоро уже тринадцать лет, — ответил Бооди после короткого раздумья.
— Тринадцать лет, — повторил Шульц. — Много времени. Мне помнится, как будто это тебя записывал я в союз кожевников, и на «Непсава» ты тоже впервые у меня подписался?
Бооди молча кивнул головой.
— Да, — продолжал старик. — Тринадцать лет назад… Словом, мы хорошо друг друга знаем, товарищ Бооди?
— К чему ты клонишь, товарищ Шульц?
— Погоди, узнаешь, скажу все по порядку. Ты говоришь — жена плачет? Нет слов, ты говоришь чистую правду: плачет. Но что же, ты думаешь, делает моя? Два сына погибли под Доберо. Третий вернулся из Сибири калекой, без руки. Он умер под пыткой на улице Зрини. Дочка моя… я вырастил троих сыновей и одну дочь… дочку мою наградил сифилисом румынский офицер. И ты что же думаешь, жена моя смеется? Ты что же думаешь, что у меня только и дела, что слушать ее плач? Другого долга, по-твоему, у меня нет?
Старик говорил тихо. За соседним столом сильно шумели. Когда старику казалось, что галдеж заглушает его слова, он повторял их и раз, и два, голос его попрежнему звучал тихо.
— Давайте есть, товарищи, — сказал он в заключение.
Бооди не притронулся к пище. Не шелохнувшись, он бессмысленно уставился на залитую вином скатерть. Когда уже никто не думал, что он заговорит, сказал:
— Я состою в профсоюзе. Плачу аккуратно взносы. Выписываю «Непсава».
Старый Шульц даже рукой отмахнулся.
Читать дальше