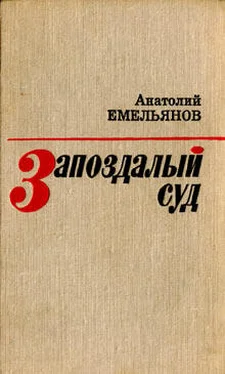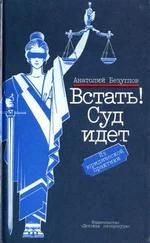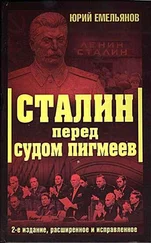— Вот что, — говорит он наконец, убирая в кармашек пиджака расческу. — Ты, Петр Яковлевич, не шуми, а ты, Гена, сможешь сегодня съездить в бывшую свою мех-колонну за проводом?
— Это всегда пожалуйста! — оживляется и веселеет Генка.
— Тогда бери мою машину, бери в бухгалтерии деньги и — одна нога здесь, другая — там!
— Халех![ Халех — хорошо, ладно.] — И Генка, хлопнув по плечу оторопевшего Петра Яковлевича, врага своего, вылетает из кабинета.
— А как же я? — вопрошает Петр Яковлевич, и губа у него обиженно дрожит, мне даже кажется, что он вот-вот заплачет.
— А вот так, дорогой! Что же делать, если мы так запустили свое хозяйство… Запрягай лошадку в водовозку и вози бочками воду коровам, как в старые добрые времена. Вперед науку, Петр Яковлевич. Сам подумай: полыхнет пожар, не только расходов, но и виновников не пересчитаешь. Беда, говорят, всегда ждет за углом…
У заведующего фермой перестают дергаться губы, он шарит в глубоком кармане штанов, достает грязный платок, осыпая на пол крошки, сморкается и выходит, одарив меня, однако, каким-то странно злым взглядом.
Но при чем тут я?
— А ты знаешь, комиссар, — говорит Бардасов. — Ведь я сначала подумал было, что Воронцов начал нос драть только потому, что живет с тобой вместе: мне, мол, все нипочем! Но, кажется, и зря так подумал про Генку. Прав он, сто раз прав!
Ну вот и весь конфликт! Все решилось, и в отношениях людей опять деловая ясность. А у меня?..
У меня вроде бы и конфликтов-то особенных нет по работе, если, конечно, не считать дело Казанкова. Правда, в моем партийном «активе» уже есть два выговора, которые мы дали на прошлом партбюро двум нашим колхозникам-коммунистам за «незаконное», как мы записали, пользование электроэнергией: Граф обнаружил махинации со счетчиками и написал докладную Бардасову. Двое из пяти оказались «моими»: «Это твои ребята, ты с ними и разберись», — сказал Бардасов. Один из них оказался Карликов. Но все это лишь отголоски жизни хозяйственной, и тут коренником идет Бардасов, председатель колхоза. Ну а что же я? Каково мое участие в этой хозяйственной жизни колхоза?..
Я спрашиваю себя об этом вовсе не для того, чтобы потешить свое тщеславие доказательствами своей полезности колхозу, вовсе нет. Я спрашиваю… мне кажется, только для того, чтобы за многими моими заботами, среди которых достаточно сугубо бумажного «делопроизводства», не пропадало у меня ощущение жизни реальной, такой, какая она есть. Пусть она хромая, кривая, больная, пусть она какая угодно, но ведь другой-то реальности нет, она одна, а я, да и все мы, люди, живем и работаем только с одной целью — чтобы реальность эта была лучше, чтобы она с каждым нашим делом выпрямлялась, выздоравливала и мало-помалу приближалась к той, какой нам хочется ее видеть, нашу жизнь? Во-первых, чтобы люди были свободны от забот о том, что есть да что одеть-обуть, чтобы не было мелочных склок из-за денег, из-за этих вот счетчиков, чтобы труд людей был не угнетающе-тяжелым, но приятным и радостным. Чтобы люди думали не о картошке, а о красоте мира. Чтобы в отношениях между людьми не было лжи, злобы, подхалимства и чинопочитания и всех подобных мерзостей, в которых мы порой барахтаемся, как лягушки в болоте. Я хочу, чтобы причиной боли и страдания человеческого сердца было познание мира и красота, любовь, свободная от меркантильных расчетов и скотских инстинктов, и искусства… Ради этого я и работаю сегодня, выношу вот выговоры Карликову, толкую с доярками и скотницами по утрам о международных и внутренних делах, а потом исподволь завожу разговор и о том, как же все-таки быть с трудоднями, как сделать колхоз наш зажиточным…
Я прекрасно знаю, что эти мысли мои далеко не оригинальны, об этом и в книгах пишут, и в газетах, по радио говорят. Но то все кто-то говорит и пишет, а мне надо самому, в глубине своей души все согласовать, чтобы не было разницы между тем, что в душе, и тем, что на языке. Ведь если разница будет, то как бы я красиво ни говорил, каким бы соловьем ни разливался, а люди сразу почувствуют ложь, неискренность мою, как это и я сам порой чувствую. И беда даже не в том, что они про меня скажут: «А, лживый болтун!» — и не будут слушать меня, но даже к самому предмету, о котором я говорю правильные (по книгам и газетам) слова, у людей пропадет всякое уважение. Я как бы своей неискренностью опорочу саму истину, саму святыню.
В самом деле, почему человечеству так дороги имена великих людей, будь то художники, ученые или революционеры? Да потому именно, что слова их не расходились с делами, потому, что за слово свое, за свое убеждение и веру они с достоинством шли на плаху, на костер, на каторгу, под пули. Они искренни и честны были до последнего вздоха, до последней капли крови. И для людей, для миллионов людей это было самым верным доказательством их искренности, их честности, потому они и верили им, и шли за ними, даже, может быть, и не понимая до конца их убеждений и целей. Их нельзя было уничтожить ни самым презрительным словом: «Эх, лживый болтун!» — потому что само это слово уже становилось очевидной ложью, ни высоким чином смирить, но только вот так: топором, пулей…
Читать дальше