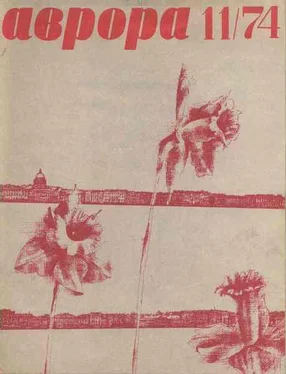Петя вернулся после отбоя. Не пришел — приволокся. Наговорился досыта, в домино настучался, устал. Лица на нем не было вовсе, Петя словно обуглился, почернел. А глаза его побелели. Он молча улегся. Ночью мне не спалось, и ему не спалось. Я спросил его шепотом:
— Что, Петя, не спишь?
— Жмет, поял? Протромбин, наверно, высокий.
Утром Петя лежал молчаливый, задумчивый.
День прошел незаметно — субботний денек, без обхода. После обеда в палату к нам стали заглядывать разные личности, звали Петю сыграть в домино. Петя кряхтя поднялся и пошел — старики отговаривали, не одобряли эту Петину прыть. Петя стоял на своем:
— Надо разгуливаться, тренировочку сердцу давать.
В воскресенье к нему пришла жена с дочкой-десятиклассницей, принесли апельсинов, в разговоре с семьей — разговаривал Петя громко, как подобает главе семьи, — он употреблял свое любимое слово «поял». Гнусное, сорняковое это словечко в Петиной речи будто клеймо от болячки на теле — невыводимо.
Вечером Петя стучал в домино.
В понедельник я дожидался, когда за мною придут, и сведут меня в гардероб, и выдадут бюллетень — и прости-прощай палата № 4.
Петя мне на прощание говорил:
— Ремонт будешь делать в квартире, со мной посоветуйся, поял? А, то, я знаю, у нас в ателье такая братва, напортачат — только держись… Главное — это линолеум настелить. Самое милое дело. Плитка всякая — все ерунда. Чешский серый линолеум в клеточку, тряпкой протер — и вся лавочка, никакой заботы. Но только, слушай меня, стелить его надо с умом, поял? Сначала надо картон, а после уже линолеум — чтобы ровно лежал, а то перекосится весь, быстро сносится, а деньги не маленькие…
— Ты мой телефон домашний запиши, — говорил мне Петя. — Я сам не подхожу, много звонят, всем надо ремонт делать… Телефон жена или выключает совсем, или спрашивает, кто, но какому делу. А так невозможно, поял? Ну, ты скажи, что вместе в больнице лежали…
Вот как нынче трудно пробиться к столяру районного ателье по ремонту квартир. Даже по личному телефону.
Говорил Петя в этот, расстанный раз как-то трудно, с придыхом. Сильно он изменился за месяц, что мы пролежали с ним рядом. Был белый, румяный, а сделался пепельный, серый — перегорел.
Но я уже шел по мартовской улице, по солнечной стороне, жмурился, грелся. До свидания, Петя, пока, будь здоров, если сможешь. Поправляйся, держись! Сегодня я плохо вижу тебя, чуть различаю, я уже далеко, далеко… Я не спорил с тобою, как следует жить. После спора, полемики, диспута, драки оппоненты расходятся, им надобно разойтись. Но нам нельзя было разойтись: из нашей палаты № 4 не уходят, отсюда выписывают. Меня выписывают, ты остаешься пока…
Появился в дверях одноногий, Зеленый Носок.
— Что, выписываешься?
— Выписываюсь.
Одноногий повисел на костылях, пошевелил скулами, ничего не сказал — упрыгал, зацокал копытцами.
— Поправляйтесь, Петрович, и вы поправляйтесь (это я руку пожал Усам.) Желаю вам поскорее вернуться домой.
Я вернулся домой и забыл о четвертой палате. Вспомнил о ней как-то утром на рынке, медленно пробираясь в толпе, к тому краю рядов, где торгуют картошкой. Вижу Васю, мочального мага, волшебника нашего рынка, Вася поет, как бывало: «Мочала-борода, борода-мочала — дррр!» Это его «дррр» — как трель весеннего дятла. У Васи круглые, нахальные, пеплом присыпанные, бездонные глаза. Посмотрел на Васю и вспомнил Петю: надо бы позвонить моему соседу по палате № 4.
Набрал Петин номер и слушал гудки в квартире, в апартаментах столь важной персоны — столяра районного ателье по ремонту квартир. И волновался, признаться: сейчас меня строго спросят, как спрашивает секретарша в приемной ну если не министра, то все же высокого чина, кто я и по какому делу. И дело-то личное у меня…
Ответил мне девичий, девочкин голос:
— Петра Андреевича нет…
— Он из больницы вышел?
— Нет, не вышел…
— А когда выйдет?
— Он не выйдет. Он умер, — ответила девочка. И чего-то ждала от меня, дышала в трубку.
Я не знал, что сказать. Ни одно из обыденных слов, которыми заканчиваются телефонные разговоры, к этому случаю не подходило. Нельзя сказать ни «спасибо», ни «передайте ему…», ни «когда позвонить», ни «до свиданья»… Я медленно отнял трубку от уха и, все еще слыша в трубке дыхание девочки, осторожно, как яичко в закипающую воду, опустил ее на рычаг.