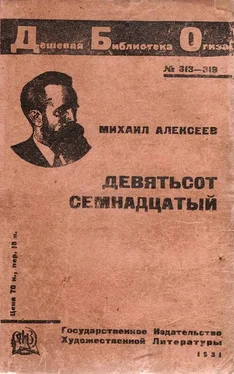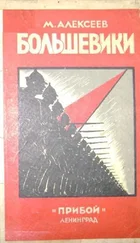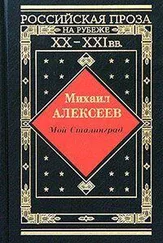— И вот он хотел взглянуть на убитую семью, а они из засады стреляли, ранили его. Тут подоспели со станции солдаты случайного эшелона и турецкая кавалерия. Вышла неразбериха. Дашнаки сразу же разбежались.
— Как Драгин?
— Ранен серьезно.
— Что же думаете делать с ним?
— Погрузить его в эшелонный лазарет.
Помолчали.
— Значит ты, Тегран, остаешься? — почти с болью вырвалось у Василия.
— Да, остаюсь. Тебе же советую уехать.
— А со стороны комитета препятствий нет? — с кривой улыбкой спросил Гончаренко.
— Да, конечно. Ведь это целесообразно. Разумеется, можно было бы поработать среди молокан, но овчинка выделки не стоит. Конечно, уезжай. Что же касается меня, то я останусь. Ну, Вася, решай сам. — Сердце Тегран тревожно забилось.
— Хорошо, подумаю… но, думаю, уеду. Наверно, уеду. Прощайте пока.
— Прощай, Вася, — прошептала Тегран, протягивая ему руку. — Желаю тебе всего…
«Лицемерка», — мысленно крикнул Гончаренко. Молча вскочил на лошадь и отъехал в сторону.
— Уедет, — заявил Абрам.
— Да… уедет… какой он странный стал. Ты не замечаешь? Почти уехал, а руку не пожал.
* * *
Не замечая ничего вокруг, Гончаренко с поникшей головой подъехал к вокзалу. Точно придавленный тысячепудовым гнетом, с трудом оставил седло. Станцией прошел на перрон. На перроне новая неожиданность, на минуту отодвинувшая в сторону тяжесть его переживаний. Кругом по асфальту сновали солдаты его позиционного полка. Вон подвижный широкогрудый Кузуев, «Кузуй волосатый», вон Ляхин, короткий, лысый, с налитыми кровью глазами. Оба с большими красными бантами на груди.
— Смотри-кась — Гончаренко, — звенящим голосом крикнул Ляхин и, улыбнувшись, показал свой беззубый рот.
— И верно! Здорово, Гончаренко! Как ты сюда попал?
— Забыл, что ли? Ведь Нефедов говорил, что он тут работает. Да чего молчишь?
— Спета наша песенка тут.
— Давай, езжай с нами в Россию Советскую, вот там и поработаешь.
— Эвакуируетесь? — спросил Василий, хотя это было без слов очевидно.
— Как видишь. Вместе со всеми монатками.
— Валяй с нами.
— А тут как же?
— А тут и делать нечего. Наш полк последний из дивизии. Правда, есть там у Персии еще бригада. Только как бы не застряла. Мы вот тех партийных работников забирали по пути.
— Едем, чего зря гибнуть.
«И верно, почему бы не поехать? Везде работы хватит. А здесь мне будет тяжело», — подумал Василий.
— Ну, что?
— Ладно, поеду.
— Вот и дело.
— А что за стрельба была?
— Да так. Турки за нами идут. Мы оставляем места, а они занимают. Сунулись и сюда. Мы им отбой дали. Хотя стоило бы пустить. Тут дашнаки буянят. Прямо все население вогнали в страх.
— Как буянят?
— Да русских режут, как поросят. А это что же, жена твоя? — неожиданно спросил Кузуев.
— Какая это?
— Да вон стоит, глаз с тебя не сводит.
Гончаренко оглянулся. Неподалеку от себя увидел он давно забытую Марусю. Женщина с затаенной тоской глядела на него. Поймав взгляд Василия, она улыбнулась тепло и приветно.
— Что, знакомая?
— Да, так… Погодите, товарищи, я с ней потолкую. Когда Гончаренко отошел, Ляхин, криво улыбнувшись, сказал:
— Зазнобушка.
— Ничего… И ее заберем, — промолвил Кузуев.
* * *
— Здравствуй, Маруся. Что ты здесь? — спросил Василий, подойдя к женщине.
— Ничего.
— Провожаешь кого?
— Тебя провожать пришла.
— Шутишь. Откуда знала, что еду?
— Я каждый день здесь… Безработная.
— Все гуляешь?
— Нет, только так…
— На, деньги.
— Нет. Не нужны мне твои деньги. Напрасно думаешь ты, что из-за денег тебя полюбила.
Гончаренко смущенно отвернулся.
— Васенька, возьми меня с собой… Хочу уехать отсюда в Россию. Возьми. Исполни эту просьбу.
— Ну, что же, это можно. Только куда же ты поедешь?
— А там видно будет. Возьмешь?
— Хорошо, идем. Только смотри… Держи себя. Если нужно, бери у меня деньги.
— Вася! И ты веришь? Никогда я не продавалась. За тобой тосковала все, любимый мой. Деньги сама не знаю, зачем брала. А водку пила — забыться хотела. Да не забыть, раз любишь.
— Ах, молчи, — зло шепнул Гончаренко. — Брось свою любовь… Все вы на одни лад — лгать мастера.
— Васенька, не лгу я.
— Не лгу, эх… Ну, пойдем.
* * *
Всю ночь в быстром беге раскачивалась штабная теплушка. Гончаренко, забившись в угол на нары, то дремал, то, пробуждаясь, ворочался на жестких досках и снова мучился тяжелыми воспоминаниями.
В минуту просветления, когда он приобретал способность рассуждать, он думал все об одном, о Тегран, о своей поруганной любви, и мысли его, как растревоженные осы, тысячами уколов жалили его сознание.
Читать дальше