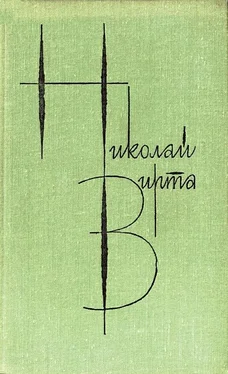— Тащи блины!
Девочка завтракала вместе со мной. Ела она все с тем же сосредоточенным, серьезным видом. Я пробовал рассмешить ее, но она ни разу не улыбнулась.
— Где твой отец?
— На войне, — едва слышно ответила она.
— А ее мать, — прибавил Толя, — гестаповцы убили. — Он встал. — Пойду скотину поить.
Теленок замычал. Девушка накормила его, потом она накормила шофера и заезжего — они пришли в избу грязные, потные и возбужденно толковали о поршнях и цилиндрах.
В полдень приехала хозяйка, а потом пришли гости: хозяйкин зять, артиллерийский сержант в отпуску, его жена — сестра хозяйки, молодая красивая женщина с годовалым ребенком и с братом — ровесником Толи. Этот мальчик был одет в новые брюки со складками и в новый пиджак. Одежда очень его стесняла: он ходил осторожно, не сгибаясь, садился с опаской, боясь помять складки на штанах.
— Вон и ковыляка наш прыгает, — объявила хозяйка.
Вошел хозяин, за ним появился Толя; в избе стало шумно, все наперебой разговаривали о чем-то и смеялись.
Я сидел на чистой половине, читал «Войну и мир». Ко мне подошел сержант, бравый парень с надменно сжатыми губами, и осведомился, что я читаю.
— Например, про артиллерию никто лучше его не написал, а почему? — разумея под «ним» Льва Толстого, проговорил сержант. — Например, капитан Тушин. Появляется всего три раза, а я вижу его, словно он живой. Пожалуй, нынешним писателям на такую горку не взобраться!
Оказалось, что сержант готовился стать учителем и, вероятно, считался в деревне самым умным человеком. Я слушал его и наблюдал за двумя девочками, сидевшими на полу в луче солнца. Они играли с кошкой, играли как-то по-своему, очень прилежно. Кошке эта игра нравилась, она жмурилась, потягивалась и мурлыкала от удовольствия.
Нас позвали обедать. Сержант ушел, я отказался. Нина тоже не хотела есть, она перешла на чистую половину и сидела, глубоко задумавшись, не слыша веселых выкриков, смеха и бренчания стаканов в первой комнате, где ели праздничный крестьянский обед.
— Сынкам, сынкам подлей, отец! — говорила хозяйка, и я не знал, кого она имела в виду: своего сына, или зятя, или всех нас.
Я читал о чувствах Пьера после того, как он полюбил Наташу Ростову, и о его безумии, состоявшем в том, что он не дожидался, как прежде, личных причин, которые он называл достоинствами людей, для того, чтобы любить их, а любовь переполняла его сердце, и он, беспричинно любя людей, находил несомненные причины, за которые стоило любить их.
И вместе с весенним солнцем душу мою заполняла волна безграничной любви и нежности к этой семье, где радости и беды разделяются без лицемерия, где живет сила, исцеляющая раны, обновляющая душу, неиссякаемая и непобедимая.
А к вечеру я уехал, чтобы никогда сюда не возвратиться и всегда возвращаться сердцем.
Шоссе то уходило вниз, то поднималось вверх и снова скатывалось вниз; по бескрайним полям лежала моя дорога — дальняя, дальняя…
1947
Старый Андриян сидел на завалинке и тосковал.
Он уже давно сбился со счета в своих годах. Говорили, будто старше его в селе только бабка Анисья, а Анисье было уже много за девяносто. Порой перед его внутренним взором возникали картины далекого прошлого: они главным образом относились к молодости. Отчетливо помнил он также события последних пяти военных лет, а середину жизни точно смыло из памяти, хотя там было немало примечательного: внучатные племянники Андрияна хвастались, что их дед со Скобелевым под Плевной турок бил, а потом с ним же ходил в жаркие азиатские земли.
Люди в присутствии Андрияна спорили, сколько же ему выходит годов: восемьдесят или все девяносто? А старик молчал; о Плевне, об Ахал-Текинской экспедиции он уже давным-давно не рассказывал жадным слушателям — забыл, все позабыл старый унтер!
И не то, чтобы он был хил и немощен до последней степени, не то, чтобы он впал в детство: ум его был еще светел, по части хозяйственной он рассуждал здраво и давал почти безошибочные советы. Последние пять лет он крепко поработал: в Двориках оставались стар, да млад, да бабы. Андриян ворочал за троих и в поле, и на току, и во дворе.
Быть может, на него подействовало всеобщее горение и желание перемочь тяжкую годину; быть может, еще оставались в нем жизненные соки и древнее его тело питалось ими. Он расходовал их без жалости…
Приезжали с войны ребята: кто в отпуск, кто по ранению — удивлялись:
— Скрипишь еще, дед?
Читать дальше