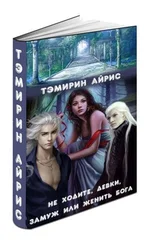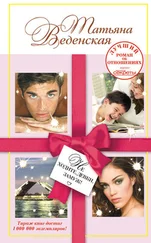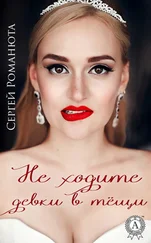Рукомойника не оказалось. Искрошенный в мелкие черепки, он валялся у сенцов, а к веревке, на которой он висел, привязана была теперь записка:
«Пашка, мы знаем, что ты теперича изменила нашему крестьянскому сословию и стала кровосоской, мужикам на шею села. Мы тебе, Паша, добра желаем и хотим упредить: недолго носить тебе портфель, недолго кричать на собраниях: «кулак, середняк, бедняк», недолго властью над крестьянами распоряжаться. Вон Аннычу голову свернули — не такой человек силы был, а свернули. И тебе свернут. Одумайся, может, тебе жизнь дорога. Видно, мало тебя по селу с веревкой на шее водили, да парни били по околицам, да бабы позорили на селе, видно тебе хуже захотелось. О записке не докладывай никому, свою голову жалеючи».
Парунька спрятала записку под лиф, отшвырнула черепки и поглядела за околицу. Околицей, приближаясь, ехали на лошади, впряженной в крестьянскую телегу.
— Товарищ милиционер, скорее! — закричала она подъезжающим.
В телеге были трое: милиционер из района и два понятых: Лютов и Марья.
Вместо милиционера ответил возчик, дядя Петя Лютов. Он остановил каурого мерина, полусонного, со сбитой холкой, и сказал:
— Садись-ка, голубица. Торопиться некуда.
— Товарищ милиционер, — заговорила Парунька тревожно, — я думаю, что все дело именно в том, чтобы торопиться. Следовало бы при этом взять свидетелей побольше — понимаешь, дела серьезные. Надо ожидать, как нас встретят. Сегодня опять записка такая же, счетом четвертая на этой неделе.
Старший милиционер, широкогрудый мужчина, прокашлялся от табаку и сказал:
— Прошу без паники. Двенадцатый год по бандам. И никогда — они нас, а все мы их.
Телега забилась, засопели колеса по овражному песку, и они выехали за околицу.
Бледная полумгла обнажила повети сараев. Послепраздничным утром этим, как всегда, из-за сараев показывались усталые пары «гуляющих» — стыдливые девки прятали лица в платки. Парень, перелезавший через прясло, сделал Паруньке привет рукой по-красноармейски. С горы по выгону понуро шли лошади из ночного; пастух сонно гикал, и короткое его гаканье взвивалось над околицей явственным эхом. Поехали лугами, окутанными испарениями реки.
Сердце у Паруньки непереставаючи ныло. Вместе с тревогой ей теперь совершенно непреложным казалось, что опору канашевскому благополучию надо искать среди своего районного начальства. Они остановили лошадь, не доезжая плотины. При лошади остался дядя Петя. Парунька, Марья и милиционер обогнули огород, разросшийся за четыре года, и постучали в мельничные ворота.
На востоке белело. Сосны прибрежного бора зубчатым гребнем упирались в небо. Устало и монотонно плескалась вода в рукаве. В окостенелой дремоте стояли кусты тальника и елошника над омутом. Зябко разрасталась сырь, над болотами стонала пигалица.
— Он слышит, — сказала Парунька милиционеру. — Он, дьявол, все слышит и днем и ночью, он хочет истомить нас.
Милиционер сапогом грохнул в дощатые поковерканные ворота. Опять стали ждать. Ворота отворила жена Канашева, заспанная, с фонарем в руке.
— Господи, — сказала она, — и днем и ночью покою нету. Сейчас выйдет. Одеться надо, что ли?
Она настороженно встала, загораживая вход. Канашев вышел в валенках и полушубке, спросил нехотя:
— Описывать?
— Описывать, — ответила Парунька. — Судебным постановлением.
— Входите, — сказал он
— В избу нам незачем, — сказала Марья. Кажи твои хлебные запасы.
Канашев подвел их к хлебохранилищу. В углу лежала в узелках мука, не больше двух-трех пудов
— Неужели все тут? — удивилась Марья, — я знаю ваше богатство.
— Все.
«Устроился. Как это он?» — пронеслось у ней в голове.
— Значит, припрятал? — сказала она.
— Никто мое богатство не считал, — ответил Канашев угрюмо, — ни ты, ни кто другой. Все излишки идут государству.
Он повернулся и пошел в избушку.
— Вам присутствовать надо при описи, — заметила Парунька.
— Все ваше, — ответил он, махнув рукой. — Бог с вами, берите, зорите, хоть на огне уничтожьте — одна сласть.
Парунька слазила к нижним шестерням, заглянула в ковши и за жернова. Даже мучная пыль там отсутствовала, точно мельница не работала годы. В углу пустующего здания валялись только ржавые весы с бадьей и гири старого клеймения. С потолка свисали причудливые космы паутины, они ходили ходуном от малейшего колебания воздуха. Милиционер, побыв в избушке, тоже понял, что опись не будет продолжительной: кроме тряпок и грязной посуды, в избе ничего не оказалось.
Читать дальше