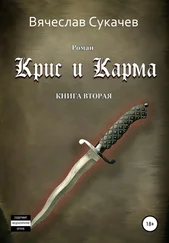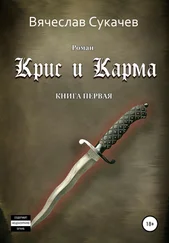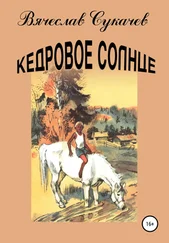— Жить надоело?— с любопытством спросил Колька Развалихин подъехавшего Митьку.
— Надоело, Коляй,— весело отозвался Митька, снимая лыжи и рюкзак. Разминая ноги, подошел, протянул руку: — Ну, здорово, добытчик. Давно дежуришь?
— Да уже с часок тебя поджидаю. Думал, в тайге останешься.
Оба здоровые, тяжелые, добродушно усмехаясь, смотрели они друг на друга так, словно бы вчера только расстались и словно не было у них одиноких ночей и тяжелых дневных переходов.
— Хорошо промышлял? — спросил Колька, когда они уселись на валежине и Митька пил горячий, до тяжелого крепко заваренный чай.
— Всяко бывало,— не сразу ответил Митька.
— А проходной через тебя не шел?
— Нет, не шел. Да у меня и своего хватает.
— А меня совсем было медведь заломал,— спокойно сообщил Колька, подбрасывая хворост в костер.
— Ну, как это? — Митька с любопытством посмотрел на товарища, хорошо зная, что попусту Колька трепаться не будет.
— На рябчика под приманку пошел,— начал рассказывать Колька,— ну, с дробовиком, конечно. А утро мглистое выдалось, что сумерки, это когда еще по чернотропу, вот я и наладился вдоль ключа на кедровник. Иду, и в голове ничего такого не держу. А только вдруг чувство такое, словно бы на меня кто смотрит из кустов. Крутнул я головой и — вот он, в десяти шагах от меня. А в ружьишке-то дробь третий номер. Я-то сдуру вначале подумал, что миром разойдемся, он — в свою сторону, я — в свою. А того не приметил, что он, язва косолапая, кабанчика придавил и я ему в самый раз обед испортил. Рявкнул он, сволота, и прет на меня. Пасть оскалил, слюна разлетается в стороны, озверел. Ударил я по нему с двух стволов, глаза-то ему и ошпарил, а он на дыбы, ружьишко у меня выдернул, ровно соломинку, и в сторону забросил. Ну, я за нож и под него, благо глаза ему выжег. А он, курва, и сообразил на меня сесть. Не совсем, правда, так бы в порошок размял, а низом живота припечатал. Тут я вскрытие ему и произвел. Он как заревет благим матом, трахнул меня по загривку лапой, я метра три летел, а только смотрю, он
уже кишки мотает. Тут меня и страх разобрал. Надо свежевать, а не могу, руки трясутся.
Колька вздохнул и замолчал, задумчиво глядя на огонь.
— Счастливо обошелся,— заметил Митька.
— Счастливо,— еще раз вздохнул Колька...
Вертолет пришел под самый вечер, когда они его уже и ждать отчаялись. Первым выскочил на снег улыбающийся Егор Иванович. Пожал руки промысловикам, а там уже и Степан Матвеев лезет, Толька Острожный, молоденький брат погибшего летом Витьки.
— Ну, соколики-орелики,— загудел Степан, добродушно улыбаясь,— гулять поехали?!
Взмыл вертолет над сопками, пообмел куржак с деревьев и зачастил лопастями, набирая скорость.
На Новый год в Макаровском клубе вечер отдыха организовали. Была елка, дед Мороз, на удивление маленький и щуплый, танцы под радиолу и школьный концерт художественной самодеятельности. В клубе, считай, все макаровцы собрались, разве самых малых да старых можно было не досчитаться.
Концерт Пелагея Ильинична вместе с Самсонихой смотрела, сидя в самом первом ряду. Концерт славный у ребятишек получился, нарядный. Чего-то такое они там пели, стишки рассказывали — в зале плохо было слышно,— но уж зато смотреть никто не мешал. Потом вышел директор леспромхоза, поздравил всех и лучших людей назвал. Пелагея Ильинична в этом списке восьмой шла, перед конторскими, и хоть труд ее каждый год отмечался, а загордилась она от почести, на Самсониху покосилась. Потом Егор Иванович вышел и тоже хорошие слова сказал, а уж передовиков перечислять прямо с Митьки начал. Оглянулась Пелагея Ильинична на то место, где Митька с Любавой сидели, и порадовалась за них. Согласно сидели молодые, рядышком, Любава ей улыбнулась и головой кивнула.
«Вот и ладно так-то,— думала Пелагея Ильинична,— даст бог, слюбятся потихоньку. С ребеночком только бы поторопились, чтобы и мне, старой, утеха была. Любава-то за последнее время как переродилась. Конечно, сильного веселья у нее и теперь нет, но уже и не прячется она от них, в себя не уходит. А веселье, что веселье, жить надобно, а не веселиться».
— Гляди, судариха идет,— толкнула бабка Самсониха под бок.
И правда, сударихой выплыла на сцену Галка Метелкина и начала от комсомолии говорить. Гараськиного в ней и грамма не было, вся в мать пошла, ныне уже покойницу. Мать-то, Марея, такая же боевитая у нее была, да быстро кончилась. Свел ее Гараська, кочет паскудный, начисто. Сам накобенится, все подолы у вдовых баб в деревне обнюхает, а придет домой и измываться над Мареей начинает. На другой день смотришь — и сердце заходится: во двор управляться выйдет, на лице живого места нет. А теперь, паразит, ходит тихохонький, да все в президиум встрять норовит. Будто и без него там некому мест просиживать.
Читать дальше