С людьми Куличков робок, застенчив. Но робость его не от трусости, а от чувства особой деликатности, мягкости, а если и есть в нем страх перед другими людьми, то только потому, что он не хочет, не может видеть кого-то в состоянии недовольства, озлобленности и потому заранее ему во всем уступает.
Но самое удивительное в Куличкове то, что, выйдя на пенсию, он все свое освободившееся время (об этом рассказывают с усмешкой, но, в какой-то мере, и с уважением и даже с опаской) целиком и полностью стал отдавать рисованию. Смеются потому, что рисует, пишет, «бумагу, холсты марает», вместо того, чтобы каким-нибудь полезным делом заняться, а уважают и побаиваются на всякий случай — попробуй, разберись, что он вытворяет дни и ночи напролет — вдруг в самом деле важным человеком окажется, такое ведь тоже бывало и не однажды.
Куличков медленно, бесцельно идет по своему запущенному саду. Иногда наклоняется и что-то долго разглядывает у себя под ногами — наверное, какую-нибудь букашку увидел и следит за ее движением. Возле цветущей вишни останавливается надолго, пригибает белые душистые ветки, пряча в молодые свежие лепестки свое старое птичье лицо. И осторожно, чтобы, не дай бог, не обломать, отпускает их. И лицо его становится каким-то нездешним, блаженным, и я думаю о том, что именно таких вот Людей, возможно, в давние времена называли святыми.
Увидев нас, Куличков здоровается. Отец отвечает, чуть скосив на него глаза, и, не разгибаясь, продолжает работать. Куличков стоит некоторое время у изгороди, ведь отец вполне может заговорить с ним, и потому ему надо подождать немного на всякий случай, и только потом уже заниматься своими делами, если они есть у него.
— Вот оно — парение духа, — с усмешкой говорит отец, поглядев вслед Куличкову, который, постояв у изгороди, снова бесцельно задвигался по своему саду. — Хозяйство запущено. Дом рушится. А в саду посмотри что… все глохнет, пропадает. Земля криком кричит, одичала… руки бы к ней приложить. А хозяину, видите ли, некогда. Он картинки рисует, мечтает… парит. А дома жрать нечего, кроме чая да хлеба.
— Ты не прав, отец, — говорю я.
Отец поворачивается в мою сторону.
— Не прав? Вот как… Любопытно, что ты имеешь в виду?
— Я не знаю, как объяснить… но мне кажется, — сбивчиво говорю я, — что Павел Борисович вовсе не потому не занимается хозяйством, что ленится… или трудиться не привык. Наверное, он видит смысл в чем-то другом, о чем мы не знаем даже. Ведь если он ради «парения духа», как ты говоришь, о еде забывает, то, значит, стоит чего-то его «парение». Во всяком случае, он его выше еды, выше обыкновенных удобств ставит.
— Слова… пустые слова, — отрезает отец. — Оправдание лодыря. Они всегда говорят, когда работать не хочется, что мировые проблемы решают. Так же вот алкоголики оправдываются, что не мерзость, не безволье, а, видите ли, скорбь вселенская их к пагубному зелью толкнула… Мое убеждение таково — любые идеи, любые открытия, если не вечный двигатель изобретаешь, в работе рождаются. В постоянной, упрямой работе. Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух… А что можно ждать от Куличкова для меня, тебя, еще кого-нибудь, если он сам себя с трудом на земле держит.
Мне не хочется спорить. Это так же бесполезно, как попытаться на могучем контрабасе воспроизвести скрипичный этюд. Кроме того, у меня есть к отцу довольно серьезная просьба и, чтобы он отнесся к ней с соответствующим пониманием, вряд ли следует ввязываться в ненужный спор и дразнить его понапрасну.
— В какой-то мере я согласен с тобой, — дипломатично говорю я. — Но меня сейчас интересует другое, — я делаю внушительную паузу, достаточно длительную, чтобы отец смог переключиться с Куличкова на мою скромную особу, но и не слишком затяжную, чтобы его ожидание приняло оттенок нетерпения и недовольства, а потом говорю: — Мне нужна машина.
— Это еще зачем? — спрашивает отец. В тоне его голоса я не слышу явного, ведущего обычно к отказу, неудовольствия, только легкое, на всякий случай, колебание. Вот она сила дипломатии!
— Так, покататься, — осторожно говорю я. — День сегодня видишь какой чудесный.
— С ребятами поедешь?
— Нет, только Витька возьму. Цветов из леса привезем… Уроки я сделал, в саду поработал, не мешало бы развеяться немного в порядке вознаграждения.
— Ну, хорошо, — соглашается отец. — Машину получишь… заслужил.
Я с радостью вонзаю лопату в землю и, как пушинку, переворачиваю поднятый пласт. Работаю какое-то время с такой страстью, что наседаю отцу на пятки. Отец одобрительно, с удовольствием кряхтит, видя мое усердие, и старается сохранить необходимое между нами расстояние.
Читать дальше
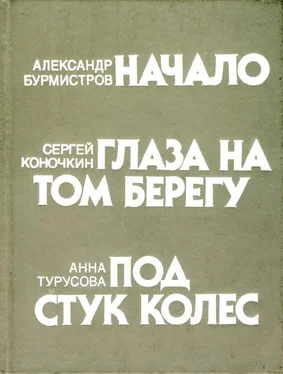






![Александр Ярославцев - Начало немыслимого [litres]](/books/431948/aleksandr-yaroslavcev-nachalo-nemyslimogo-litres-thumb.webp)


