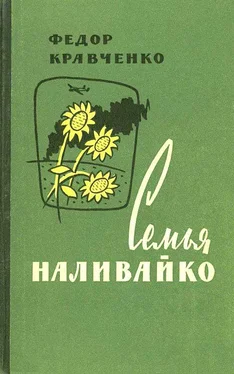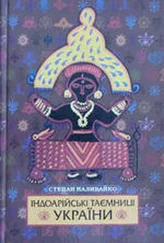Я уж молчал о себе — надтреснутом, дребезжащем колокольчике. Я радовался за братьев, за мать. Так приятно было смотреть на нее, плакавшую и в то же время улыбавшуюся. Она не видела меня, стоявшего рядом с ней. Ей, должно быть, представились те, кого сейчас не было в Сороках. И я не обижался; я, как новорожденный теленок, смотрел на мать. Она заметила мой взгляд и сконфуженно сказала:
— Что это мы лодырничаем? Пойдем, агроном, в поле, весна не ждет…
Мне так хорошо стало, что я готов был шалить, как мальчик. Я шел рядом с матерью, весело глядя на зацветающие абрикосы. В моем воображении возникали самые фантастические видения. Вот люди со всех концов Советского Союза приезжают к нам в Сороки. Они изумленно рассматривают колхозный сад. Огненными шарами висят на ветвях плоды, и люди спрашивают: «Что это — яблоки?» Нет, это вишни. Люди идут дальше вдоль сада и снова останавливаются от изумления. Они видят огромные, ветвистые деревья… Среди листвы висят краснобокие тыквы. Но нет; это не тыквы, это же яблоки!.. А вот бахча. «Что это за зеленые бочки?» — спрашивают люди. Сторож смеется. Он прикасается ножом к зеленой бочке, и она с треском раскалывается на две половины. Малиновое мясо внутри усеяно нежно-золотистыми зернами. Это арбуз…
Я сам смеюсь, рассказывая матери о чудесных плодах, выращенных ее сыновьями.
Она строго говорит, глядя на работающих в поле колхозников:
— Давай, сынок, пока обыкновенным хлебом займемся… да картошкой… да скотом и птицей. Чтобы полны были и закрома, и погреба, и фермы… Чтобы люди со всей земли смотрели на нас и говорили: «Ишь ты, какие сильные!»
…Степная дорога была залита солнцем. И как нас радовало то, что вокруг — весенний простор, вольная жизнь.
Неожиданно мы с матерью поспорили. Вспомнив сказку про глицинию, мать пожурила меня и сказала, что все-таки надо пожалеть Клавдию, тем более что она решила продолжать работу в нашей десятилетке.
Я сказал, что Клавдия должна уехать из Сорок. Когда Максим окончательно вернется домой, трудно будет ей учить наших ребят. Ведь шила в мешке не утаишь.
— Какого шила? — недоумевала мать.
— Когда все узнают, что Клавдия Михайловна чужими руками жар загребала…
— Кто там будет знать.
— Поймут… все поймут… Все село помнит, как Максим прямо на руках носил Клавдию. И вдруг…
— Ох, сынок, ты лучше не говори о том. А то сам всех против нее настроишь.
— И настрою! Обидно мне, мама… Понимаешь? Одни жизни своей не жалеют, а эти красотки… Такие и при коммунизме захотят жить барынями… — Войдя в азарт, я сказал: — Знаешь, мама, я в лесу партизанские листовки писал… Вот и теперь мне хочется написать воззвание…
— Про уход за посевами? — с улыбкой спросила мать.
— Нет, воззвание к мужчинам, к мужьям: «Проверьте, нет ли паразита у вас в семье? Не висит ли на вашей шее красотка жена?»
Мать нахмурилась:
— А среди мужиков нет паразитов? Может, на шее какой несчастной жены пропойца висит?
— Бывает и так, — согласился я, — но чаще всего красотки своих мужей оплетают…
— И чужих… и чужих… — насмешливо добавила мать. — Да и не только красотки…
Я хотел сказать, что в данном случае речь идет о Клавдии. По-видимому, мать догадалась и не дала мне высказаться:
— Ох, Андрюша, ты лучше к Наташе приглядись. Она тоже красивая.
— Она не такая! — почти закричал я.
И тут же, опомнившись, заявил, что мне, в сущности, нет дела до Наташи… Я сам по себе, а она сама по себе… Мать посмеивалась, глядя на меня. Я еще больше сконфузился. И бог знает зачем (может быть, потому, что Максим как раз уехал на фронт), я рассказал матери сказку про солдата Омельку и Смерть. Мать уже совсем развеселилась:
— Мели, Омельку, хоть всю недельку!
Шагая с ней рядом по степной дороге, я еще о чем-то говорил и радовался, что ей хорошо. Тогда и пришло мне в голову, что мы все должны заботиться о счастье матерей, как они о нас заботятся… Что касается меня, то я буду стараться, чтобы наша добрая мать всегда чувствовала себя и сильной и счастливой в своей семье.

1942–1944 гг.