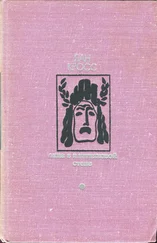Правда, он действительно «оступается» в проблематику «Моцарта и Сальери» (или, скажем, он имеет в виду и такую интерпретацию). Во всяком случае, он отдает ей дань. Отсюда и идет ощущение нарочитости: кажется, что противники спешат поддаться друг другу. Но я думаю, что в основе тут совсем иной подход, и глубинная интонация повести становится понятной, если его принять. Дело в том, что медлительные, крепкие, сердитые таллинские гильдийцы не менее дороги Кроссу, чем легкий, тонкий, написанный «италийской» светлой гаммой Ситтов. Допускаю, что они ему даже больше дороги. Потому что обаяние ситтовского творчества он передает через несколько заемные краски, взятые, я думаю, с палитры французских импрессионистов, в красках же, какими выписаны фигуры таллинских мрачноватых «стекольщиков», чувствуется глубокая самобытность. Их практичные стекла так же нужны в дождливом и пронизанном ветрами северном городе, как и витражи фантазера. И даже больше нужны. Но это все — если воспринять интонацию Кросса. Его умный, скептичный взгляд. Взгляд, не сталкивающий горнее и дольнее, непостижимо высокое и отупело низкое, — но принимающий реальный план вещей, когда каждый действует так, как ему приходится, и не может иначе.
Да, в «Четырех монологах» Кросс еще сбивается и на мнимый драматизм, и на сентиментальное умиление, но уже в «Имматрикуляции Михельсона» сбоев нет, в этой холодной, ровной, графичной, снежно-сумеречной повести Кросс свой стиль находит.
Расщепление текста на монологи безукоризненно: уверенный екатерининский генерал; его простецкий денщик… Когда из соотношения двух этих уверенностей возникает катастрофическая неуверенность — включаются голоса двух деревенских стариков, и они тоже не знают ответа… По поверхности текста идет бравада Михельсона, шокирующего надушенных и надутых дворян своим мужицким происхождением, по глубине же идет ваше читательское сомнение: герой что-то словно бы прячет от самого себя. То ли это демократ в мундире, то ли чудящий барин. То ли отзывается в его браваде застарелый страх холопа, мальчика на побегушках, то ли еще что-то пострашнее. И вы наконец понимаете, что это. Паркетные скандалы новоиспеченного дворянина, демонстративно приводящего на имматрикуляцию своих пахнущих навозом родителей, — это верхний слой драмы, и это ничто перед той страшной болью, которую носит Михельсон на дне своей души: он, мужик, ненавидящий бар, по приказу императрицы загнал в ловушку Пугачева.
Этот факт роняет вас с паркетных поверхностей в такую глубь, что скандал имматрикуляции кажется почти недоразумением; вы пытаетесь связать эти уровни и понимаете, что связать невозможно. Более того, невозможность связать, скомпенсировать, погасить одно другим и есть главная боль автора. Это тема повести. Нет мостика: каждый обречен гнуть свое, каждый прав по-своему, дерзит Михельсон эстляндским аристократам и, изловив Пугачева, в Симбирске, долгим, молчаливым, честным взглядом глядит тому в глаза. Случись снова — и снова каждый пойдет по жребию и долгу, один — жечь усадьбы, другой — ловить злодея. Как соединить это? Чувствами — невозможно. Только холодным, упрямым, горьким умом — охватывая все, не дерзая понять до дна. «Тебе не развязать этого узла. И мне тоже. Никто его не развяжет».
Критики наши развязали узел следующим образом: Михельсон в день своей имматрикуляции заставляет местную знать пойти на компромисс , потому что отыгрывается на ней за тот компромисс , на который он сам пошел, укротив Пугачева. Или так: Михельсон берет с аристократии нравственный выкуп . Урок таким образом извлечен.
Маленькая заминка вышла у критики с другим рассказом — с «Историей двух утраченных записок», где молодой Крейцвальд отказывается от пасторской карьеры и едет в Петербург, чтобы стать медиком. Что это? Это — «бескомпромиссное решение». (Хотелось спросить: а что делать с пробстом Мазингом, столь много послужившим родному народу в своем сане?) Однако светлый, безмятежно ясный, неуступчивый юноша Крейцвальд слишком уж явно выпадает из шеренги угрюмых героев Кросса. Критики это признают. (Хочется подсказать: да вы загляните в другие повести! Там Крейцвальд уже не столь мил и ясен. В повесть о Янсене загляните, где Крейцвальд представлен «с дрожащими от старости коленями». В «Третьи горы» загляните, где этот старик, «осторожный, скептичный и горький», предостерегает Келера от столкновения с властями. То-то «компромиссов»!) Но это я так, в шутку. А всерьез-то — ничего и не надо искать за пределами рассказа (вернее, фрагмента неосуществленной повести): здесь сказано все! И даже объяснено, почему повесть не осуществилась. С непередаваемой иронией Кросс фантазирует: а та корзина, что плыла по разлившейся Неве в пушкинских стихах, вполне ж могла быть корзиной с бумагами Крейцвальда. Молодой человек учительствовал в Петербурге как раз в 1824–1825 годах. Не исключено, что 14 декабря он слышал стрельбу. Не исключено также, что он…
Читать дальше
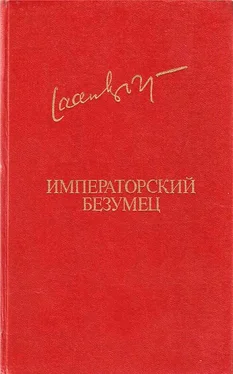
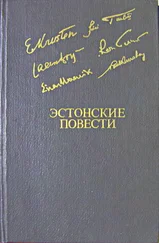
![Яан Кросс - Императорский безумец [пьеса]](/books/34929/yaan-kross-imperatorskij-bezumec-pesa-thumb.webp)
![Яан Кросс - Раквереский роман. Уход профессора Мартенса [Романы]](/books/35175/yaan-kross-rakvereskij-roman-uhod-professora-marte-thumb.webp)