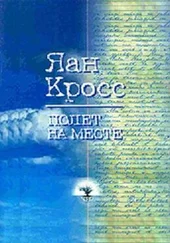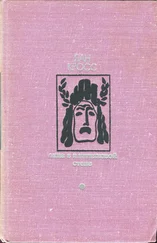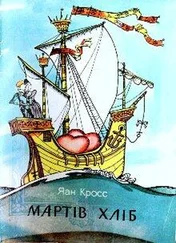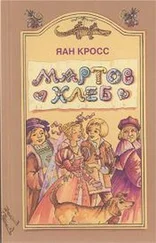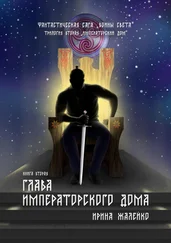Интервью Болдырева тем более рельефно, что рядом с Кроссом на те же вопросы отвечают критику Юрий Давыдов, блистательный исторический романист, и Булат Окуджава, мало общего имеющий с исторической прозой. Два, так сказать, края. И что же? Давыдов вкапывается в вопросы по существу, он сравнивает людей девятнадцатого века с людьми восемнадцатого, ищет линии сходства и различия. Окуджава аристократично отшучивается.
Вопрос Болдырева: как вы пришли к исторической прозе? Ответ Давыдова: я к ней не пришел, я из нее вышел (то есть это мое кровное дело). Ответ Окуджавы: я не избежал общей участи (то есть моего участия здесь, в сущности, и нет).
Ответ Кросса: я к исторической прозе пришел случайно .
Вдумаемся. В этом и впрямь есть что-то от казуса. Кроссу заказывают… оперное либретто. Поэту, создавшему в пятидесятые годы философское направление в эстонской лирике (больше никому не удалось), — оперное либретто! Он пишет. Ему заказывают… киносценарий. Пишет. Кое какой материал из шестнадцатого века в сценарий не влезает…
Так начинается жизнеописание Балтазара Руссова.
Цепочку повестей «из девятнадцатого века» Кросс создает параллельно шести книгам этого жизнеописания. Так что никакой «эволюции» (от повестей к роману или наоборот; от шестнадцатого века к девятнадцатому или наоборот и т. д.) из этих трудов не извлечешь. Сложившийся писатель и ученый, юношеские и ученические опыты которого остались где-то во тьме ранней биографии, случайно ступив на стезю исторической прозы, сразу начинает строить (и выстраивает!) разветвленный и целостный художественный мир.
Не говорит ли это о том, что потенциально художественный мир Кросса вызрел и вырос безотносительно к историческому материалу и, так сказать, до прикосновения к нему? Он «излился» в исторические сюжеты, как до того излился в философские стихи. Но зародился он из внутренней необходимости.
Так, может быть, надо понять эту необходимость? Понять духовный мир Яана Кросса, исходя не из «материала», а из принципа, из его структурной самоорганизации?
Русская критика это по первым же повестям почувствовала. Она сразу подошла к прозе Кросса не как к историческим описаниям, а как к притчам и парафразисам. Она их приложила к нравственной борьбе. И назвала она, русская критика, эту цепочку от «Четырех монологов» до «Императорского безумца» — драмой бескомпромиссности и компромисса .
С каковой интерпретацией я и намерен спорить.
Одна оговорка по поводу употребленного мной весьма ответственного понятия «русская критика». Попробую его сузить. О Кроссе писали: Александр Лебедев и Андрей Турков, Анатолий Бочаров и Валентин Оскоцкий; о Юлии Смелкове я уже говорил [121] Ю. Болдырев — особняком, и к его позиции я еще вернусь.
. Никак не посягая на индивидуальность этих несхожих критиков, я объединяю их в данном случае только потому, что материал сам подсказывает это: критики с удивительным единством подошли к Кроссу. Они все сошлись в том, что повести Кросса есть не что иное, как исследование разных вариантов отступничества. От «маленького, совсем маленького компромисса», на который «легко и с веселым лукавством» пошел художник Ситтов, до тяжкого греха издателя Янсена, по поводу «гешефтов» которого критики, не сговариваясь, напомнили читателям убийственную цитату из Щедрина: «применительно к подлости».
Ну, и начнем с веселого художника, история которого рассказана Кроссом в «Четырех монологах по поводу святого Георгия». Из всех повестей Кросса эта, вообще говоря, наименее удачна: нащупывая систему письма (расщепление речи на монологи — пересечение жизненных проекций — «честность материала»), Кросс, кажется, еще не вполне этой системой владеет. Из четырех монологов прочно увязаны три (художник — противостоящий ему гильдийский старшина — влюбленная в художника дочь одного из местных ремесленников); монолог ситтовского отчима, ведущего со своим пасынком имущественную тяжбу, из игры несколько выпадает, а игра тут такая: гильдия требует, чтобы Ситтов, свалившийся к ним из Италии, сдал полагающийся экзамен: изготовил приемлемое по местным стандартам изделие, и знаменитый художник великодушно соглашается таковое изготовить. Вполне можно переосмыслить этот сюжет в категориях «Моцарта и Сальери» (пропасть между гением и посредственностью) — тогда мы действительно получим историю «маленького компромисса», на который весело идет легкокрылый гений, столкнувшийся с тяжелодумами ремесла. Но тогда получается, что интонация Кросса сбивается на каждом шагу. Сердитый отчим, вроде бы обязанный ненавидеть пасынка и вроде бы на него ополчающийся, вдруг посреди брани обнаруживает совершенно немотивированное восхищение его работами. То ли гений так силен, то ли посредственность в поддавки играет. А может, ни то и ни другое? Может, тут и в самом заводе нет тяжбы гения и посредственности? Может, историю эту Кросс в другом смысле рассказывает?
Читать дальше
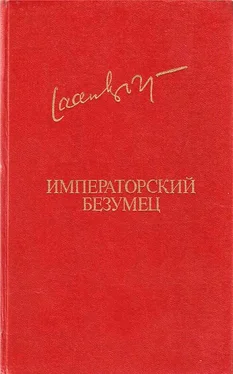
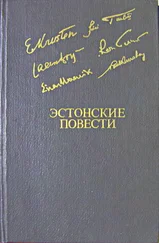
![Яан Кросс - Императорский безумец [пьеса]](/books/34929/yaan-kross-imperatorskij-bezumec-pesa-thumb.webp)
![Яан Кросс - Раквереский роман. Уход профессора Мартенса [Романы]](/books/35175/yaan-kross-rakvereskij-roman-uhod-professora-marte-thumb.webp)