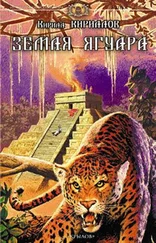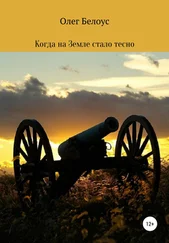Эдька кривовато усмехнулся:
— Не собираюсь пока.
— Та-ак… — продолжал Коленьков. — Это уже лучше. У нас тут как в медицинской науке по новорожденным: главные даты все на тройку. Три дня прожил — живешь на свете, три месяца — уже кое-что знаешь, три года — кое-что умеешь. Вот через три года у меня с тобой беседа и пройдет. Тогда я тебе скажу, что ты за человек. А пока ты для меня абитуриент. Знаешь, как в институте перед вступительными экзаменами. Может быть, ты в будущем министром станешь, а может, деру дашь через неделю. Так что давай, хлопец, глядеть будем друг на друга. А сейчас я тебе расскажу, что такое будет здесь, скажем, через десяток лет. Ну, через два-три года тут пойдут строители. По самым нашим следам. Вот ты на своем тракторе пробьешь дорожку, а эту твою дорожку уже с пилами народ расширять будет. Уже просека, значит. Поначалу одна колея. Потом пойдет другая. Рядом — дорога. Асфальт или плиты бетонные. Одностороннее движение. На «Жигулях» своих ты одним духом по этим местам проскочишь… Станции техобслуживания, гостиницы для проезжающих. Маршрут Москва — Советская Гавань… автотурист товарищ… м-м-м-м… Как тебя… Рокотов? На базе Буреинских угольных месторождений и близкой хинганской железной руды будут тут настроены такие заводы! И города пойдут. И очень даже может случиться, что твоим, скажем, именем тут город назовут. Да… А чем плохо звучит… как тебя там… город Рокотов. Ну, я себе, как минимум, село обеспечил. Село Коленьково… Ничего? И на город могу махнуть, хотя и не так благозвучно получается. Дальше что мы имеем? Уже сейчас здесь есть открытые залежи цветных металлов, фосфоритов… А древесины сколько первосортной? В общем, скоро тут такое будет… И ты когда-нибудь скажешь с полным правом: я тоже эту историю делал. Вот для каких дел мы с тобою и с Лидией Алексеевной в этих пока что богом призабытых краях. А завтра я тебе покажу место, где совершенно точно мост через реку будет. А раз мост, так наверняка и станция. Пока что мы ее не закладываем, не положена она здесь, но потом, когда время придет и тайгу всю обротаем, тут самое место для станции. Все как заведено.
Эдька переминался с ноги на ногу, стоя перед Коленьковым, и начальник партии заметил это наконец. Прервав на полуслове свой рассказ, он сказал хмуро:
— Иди вон в ту палатку… Там есть Котенок… Макар Евграфович. Он у нас тут за механика. Скажи ему, чтобы определил тебя с техникой. И жить с ним вместе будешь. И еще вот что, у нас тут по части выпивки заведено так: узнаю про бутылку — пеняй на себя. Запись со статьей в книжку трудовую и, как говорят, без выходного пособия. Все.
Эдька ушел, а Коленьков сказал стоявшей рядом Лиде:
— Сбежит через две недели. Вспомните мое слово. В глазах тоска. Не то увидел, что хотел. Романтики маловато оказалось. Кстати, где вы этого хлопца подцепили?
— Это мой племянник, — сердито сказала Лида, и Коленьков вдруг побурел щеками, насколько возможно было изменить цвет его продубленной всеми ветрами физиономии. А Лида, словно мстя ему за злые слова об Эдьке, добавила: — Вы тут, я вижу, совсем хорошо живете… Стыдно. Бороду запустили. Как золотоискатель какой… Вроде ленского старателя. Не знала бы — ни за что не приняла бы за инженера, за начальника партии. Хоть бы о подчиненных подумали.
Коленьков сердито сопел, глядя в сторону, и ухо его было совсем багровым. Лида с трудом удержалась от того, чтобы не напомнить ему совершенно дикую выходку с письмом, отправленным ей домой, хотя ему было прекрасно известно, что это письмо не застанет ее в Москве, и вообще — в нем не было никаких срочных дел, о которых обязательно надо было сообщать. И что все это мальчишеские штучки, которые не идут сорокатрехлетнему человеку, руководителю и так далее. Довольствовалась тем, что через десять минут увидела Коленькова, гримасничающего перед зеркалом возле умывальника. Борода, видимо, была жесткая, и начальник партии с трудом ее соскабливал бритвой. А потом Он, облившись «Шипром», начал ругаться на Котенка, в подражание начальству запустившего тощую жуирскую бороденку, и тот тоже начал бриться, ворча вполголоса насчет всяких-разных капризов уважаемого товарища Коленькова, который и сам не знает, что ему нравится, потому что утром хвалится бородой, а вечером ругает товарищей за то, что потеряли человеческий облик.
В первый же день после приезда Лида написала письмо Игорю. Было оно сумбурным, в нем перемежались обвинения в его адрес за сказанное на прощанье и признание в том, что она скучает о нем. В конце она написала: «Ты можешь меня ругать за то, что я всегда вдалеке от семьи, что дочка живет без матери, что ты много лет сам себе стираешь рубашки… Может быть, ты и прав. Зато у нас есть встречи после разлуки — и это прекрасно, это, кстати, уже недоступно многим из наших ровесников. Каждый раз, когда я вижу тебя, ты меня раздражаешь своей неприспособленностью к жизни, и тогда я думаю: вот его бы в партию, в тайгу, где человек должен уметь многое, чтобы выжить. А когда уезжаю от тебя — то кляну свой характер за те минуты боли, которые тебе доставила. Наверное, все-таки ты у меня самый лучший, потому что столько лет безропотно несешь свой крест и молчишь. А ведь если б ты когда-нибудь твердо, по-мужски сказал мне: «Все, достаточно. Никуда ты больше не поедешь». Я, наверное, изумилась бы. И наверняка подчинилась. Потому что каждая женщина мечтает о том, чтобы кто-то решал за нее ее судьбу. Даже самая сильная женщина…»
Читать дальше