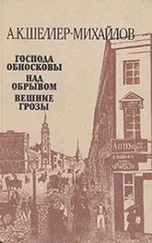В это время в комнату вошел лакей и принес завтрак. В ту же минуту из комнаты княгини раздался звонок.
— Скажи, Петр, Надежде, что княгиня зовет. Я нездорова, — проговорила Глафира Васильевна.
Лакей вышел.
— Пусть повозится с камер-юнгферой молодой барышни, — произнесла Глафира Васильевна, принимаясь за завтрак.
Через несколько минут в комнату вошла щегольски одетая девушка в светлом платье и черном шелковом переднике.
— Мне некогда, Глафира Васильевна, — скороговоркой проговорила она. — Княжне надо приготовить платье.
— Ну, мать моя, у меня и есть время, да охоты нет. Делайтесь там, как знаете. Тоже в шестьдесят лет притопчешь ноги-то, — небрежно ответила старуха, продолжая завтракать.
— Мне тоже не разорваться!
— А я вот, матушка, разрывалась на своем веку!
— Я так княжне и скажу, если платье не будет готово, что вы…
— Да ты не таранти здесь, а ступай делать дело, — строго произнесла Глафира Васильевна, нахмурив брови.
Она обращалась с прислугой чисто по-барски и не терпела возражений.
Нарядная горничная хлопнула дверью и вышла.
— Верно, старухе-то труднее служить, чем княжне, — желчно усмехнулась Глафира Васильевна. — Ведь вы ее поверите, каких-каких претензий у нас нет. Утренние чепцы у нас по дням распределены. Во вторник не смей подать того чепца, который в среду надевается. Десять пар карманных часов у нас хранятся, — все память чья-нибудь, — ну, и заводи их каждый день и выверяй их и, коли спросят: «Помнишь Глафира, когда эти часы мне подарили?» — так ты сейчас и рассказывай, что вот когда мы то-то делали, когда у нас тот-то и тот-то ребенок родился или умер, так эти часы нам и достались как подарок от отца ребенка или как воспоминание от покойного князька. А мыться мы станем, так тут надо уметь воду подать, мыло принять, полотенце растянуть, все это так, как делалось изо дня в день в течение с лишком сорока лет. Пусть послужат, пусть послужат другие! Что ж… я стара стала, не умею служить, волю взяла!
Глафира Васильевна все сильнее и сильнее возвышала тон. В нем слышалось что-то глубоко желчное и глубоко грустное. Старуха, как это нередко с нею случалось, переживала в минуту разлада с княгиней все свое прошлое, сознавала все перенесенное и возмущалась своим положением. В ее душе в эти минуты странным образом смешивались вместе и любовь, рабская любовь, к княгине и горькая ненависть к своему рабскому положению. Слушая ее речи, можно было подумать, что она жаждет всеми силами души только вырваться из этого дома, но в то же время ее слезы ясно говорили, что она боится именно того, что ей придется наконец покинуть этот дом, что ей найдут преемницу. По-видимому, она вполне сознавала, что она необходима княгине, как воздух, и в то же время чувство рабы подсказывало ей, что, может быть, обойдутся и без нее. Это ее пугало: она не перенесла бы своего горя, если бы княгиня обошлась без нее.
— И точно волю взяла, — заговорила она с горечью, — получила вольную и сижу в этой комнате пятнадцать лет: из своей комнаты в кабинет сорок раз в сутки сную; к обедне не смею выйти, ночью не смею совсем раздеться, к родным раз в год съездить не могу на три, на четыре часа. Разве это не воля!.. Зазналась старая дура, холопка! Жаль, что на конюшню нельзя отправить, как раз отправили, когда старому барину ночью оплеуху дала…
Глафира Васильевна опустила голову на обе руки и тихо заплакала.
— Теперь что им Глафира? старая ненужная тряпка!.. — говорила она дрожащим голосом. — А было время, когда эта Глафира, как старый князь-отец к ней ночью забрался, могла бы не только вольную купить, а всем домом ворочать, тысячи нажить. У этих ног Глафира князя-то видела; эти руки князь-то целовал. Когда секли-то Глафиру по его приказу, так он, бешеный, волосы на себе рвал. А кто «нам» замуж помог выйти за Гиреева? Все та же Глафира. Забыли, видно, чем она за согласье-то старику сумасшедшему заплатила. Вещички там храним на память о покойных детях; Глафира вспоминай с «нами» об этих детях, а того и знать не хотят, что никогда бы, может быть, и не любоваться «нам» этими детьми, кабы Глафира не купила согласия на свадьбу… Бог с ними, пора на покой; заездили…
Старуха, по-видимому, не обращала никакого внимания на слушательницу и говорила сама с собой, говорила о том, что постоянно ныло и болело в ее душе. Катерина Александровна, вполне сочувствуя горю старухи, чувствовала себя неловко, тем более, что она сама послужила невольной причиной этого горя.
Читать дальше