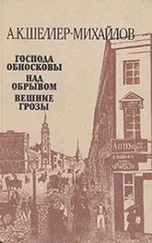— Катюша, да скажи ты мне, что это стряслось? Проворовался он… или за долги, что ли? — охала Марья Дмитриевна.
— Не проворовался и не за долги, — ответила Катерина Александровна. — Просто ему нужно быть свидетелем по чужому делу, потом придет назад. Это по службе…
— Ну, уж, мать моя, не по службе, видно! Да что я теперь соседям скажу…
— А вы ничего не говорите, — хмуро произнесла Катерина Александровна. — Да и вообще говорите поменьше с людьми.
— А срам-то, срам-то какой! Вот уж пил покойный твой отец, а этакой морали не было… Что дядя-то теперь скажет? Все его корили, что вор, вор, а сами-то что… С нами-то что будет?
— Ничего не будет. Ложитесь спать.
Катерина Александровна говорила отрывисто и резко, едва сдерживая себя.
— Что ты, мать моя, да я ни за что не останусь одна… Мне бог знает что мерещиться будет…
— Положите в свою комнату кухарку… Я устала и иду спать.
Катерина Александровна вышла из комнаты матери и в передней столкнулась с Антоном. Он был одет в домашнюю холщовую блузу и, по-видимому, еще не ложился спать.
— Ты слышал? — спросила Катерина Александровна.
— Да, — ответил он. — Ты за себя спокойна?
Катерина Александровна отвечала утвердительно.
— Надо устроить так, чтобы Флегонт Матвеевич ничего не знал, — проговорил Антон. — Надо сказать, что Александр отправился неожиданно в командировку по службе. Ты мать успокоила?
— Она охает и жалуется на то, что мы осрамились на весь дом.
— А ты, конечно, разгорячилась?
— Не могу я… — начала Катерина Александровна. Антон покачал головой.
— Пора бы привыкнуть, — холодно и серьезно промолвил он.
Катерину Александровну поразил этот тон. До сих пор Антон вел себя сдержанно, больше слушал, чем говорил. Он, казалось, оставался здоровым и сильным ребенком, заботившимся больше о еде, о физических занятиях, об уроках, чем о той деятельности, о тех идеях, которые развивались вокруг него. Он почти не занимался в воскресных школах, не присутствовал на разных лекциях, литературных чтениях и вечерах кружка. Он не дичился знакомых, но редко являлся в их кружке по недостатку времени, которое почти все уходило на учебные занятия. Гимназическая наука давалась юноше сначала не особенно легко, а он, как все самолюбивые бедняки, более всего боялся замечаний и выговоров и настойчиво старался быть первым — это значило завоевать уважение и учителей, и товарищей, стоять выше даже тех из воспитанников, которые щеголяли своими тонкими и изящными нарядами и своими экипажами. Он не был юрким пролазом и хитрым пройдохой, он не мог подкупить ближних своими материальными свойствами и щедротами, но он успел сделаться любимцем всех при помощи своего неусыпного трудолюбия и прямого, откровенного характера. Товарищи не смеялись даже над его грубоватой неловкостью, не сердились на его иногда резкую откровенность. Он стоял как будто особняком, как будто сторонился от всех, но он очень хорошо знал, что во всех затруднительных случаях товарищи обратятся именно к нему за советом или за помощью. Его домашние видели, каким трудом покупались его успехи, видели, что он охотнее занимается в свободные часы струганием досок, колотием дров, столярной работой, чем беседами на их собраниях, и любили его, но считали все-таки ребенком, мальчиком, который, быть может, даже не вполне понимал серьезность всего происходящего вокруг него. Теперь впервые Катерина Александровна как бы угадала, что он знал и понимал происходившее лучше и яснее, чем казалось. Ее удивило даже его лицо, точно она впервые видела эти черты. Перед нею стоял уже не ребенок, а юноша, здоровый, сильный, с открытым и смелым выражением в больших голубых глазах. Крупные черты этого лица выражали спокойствие и прямодушие, от них веяло какой-то деревенской свежестью и неиспорченностью. Это лицо с первого взгляда казалось не только спокойным, но почти холодным, и только в глазах, в больших, откровенных синих глазах светились добродушие и мягкость. Даже юношеская неуклюжесть была полна своеобразной прелести. Она являлась скорее следствием неумения нежничать, непривычки быть в обществе, отсутствия хитрости, чем следствием грубости и черствости натуры. Сестра невольно протянула руку брату. Он крепко пожал ее своей широкой рукой.
— Ты ложись, — проговорил он. — Устала, я думаю. С матерью-то я переговорю.
— Ты ничего не поделаешь.
— Да тут и делать нечего. Скажу, что нужно молчать, если не хочет себе повредить. Ну, и будет молчать. Вы все препираетесь, доказываете, волнуетесь, а тут нужно поступать проще. Соврать, что нас всех с лица земли сотрут, если мы хоть одно слово скажем, ну, и будет безмолвствовать.
Читать дальше