Степан широко открытыми глазами смотрел на Рыбакова. А тот, перехватив взгляд парня, не улыбнулся, не смягчил выражение лица, и голос у него по-прежнему был жесткий, негнущийся.
— Таким должен быть партийный работник. Хоть секретарь ЦК, хоть инструктор райкома. И в том и в другом люди видят партию. Ты понимаешь? Пар-тию. И будь моя власть, я всякого партийного работника, который позволил бы себе крохоборство, пьянство или иную какую мерзость, я бы его расстреливал.
— Но ведь вы… — начал было Степан и осекся на полуслове. Облизнул ставшие вдруг сухими губы, потупился под строгим, требовательным взглядом Рыбакова.
— Ну?
— Вы же терпите таких, как… Тепляков, ваш второй секретарь…
— А что Тепляков?
Лицо Василия Ивановича стало хмурым. Углы губ опустились. Возле них и на лбу четко обозначились глубокие морщинки. Он, старел на глазах. Раз — и вот уже пробежали от глаз к вискам тонкие лучики морщинок. Два — и потухли, стали холодными глаза. Три — и подернулись серым пеплом щеки. Степан больше не мог смотреть на Рыбакова. Опустив в пол глаза, с трудом высказал то, что знал и думал о Теплякове.
— Строго судишь. Строго, но несправедливо. Тепляков — безотказный работник. Настоящий солдат. И дело знает. А то, что бабник, так это сплетни. Язык у него блудлив. Это верно. А руки — нет. Но мы и этот грех ему не прощаем, не списываем на войну. И если он в конце концов не поймет… А сколько вокруг настоящих большевиков. Без сучка и задоринки. Много ведь, а?
Видимо, этот вопрос глубоко волновал Рыбакова. Он и задал-то его не столько собеседнику, сколько самому себе, и тут же поспешил с ответом:
— Посмотри. Плетнев, Федотова, Звонарева, Пинчук. Да мало ли их. А комсомол? — Лицо его вновь ожило, помолодело, а голос зазвучал по-прежнему твердо и уверенно…
Тулуп был жесткий, колючий, неприятно пахнул овчиной. Степан долго ворочался, прежде чем нашел удобное положение. Расслабив мышцы тела, он еле уловимым движением высвободил кисть руки из-под обшлага гимнастерки. Скользнул взглядом по запястью, огорченно хмыкнул. Опять забыл. Прошли целые сутки, а он все не привыкнет, что остался без часов.
Часы подарил отец летом сорок первого, в день окончания десятилетки. Они были старенькие, мозеровские, купленные на толкучке. Это были первые часы в жизни Степана. К тому же подарок отца.
А вчера мать отдала его часы знакомому казаху за пуд затхлой, с чем-то смешанной муки. Проводив казаха, мать горько заплакала. Но иного выхода не было. Они уже проели все, что представляло хоть какую-то ценность. Жители райцентра получали по карточкам только хлеб. Служащий — 400 граммов в день, иждивенец — 200. Синельниковым на четверых причитался один килограмм сырого суррогатного хлеба. Но и его удавалось получать далеко не каждый день. Младшие же, брат и сестренка, не хотели считаться с этим и требовали хлеба. Любимица отца трехлетняя Олечка все время просила «пилоска с калтоской».
«Вот тебе и «пилоски с калтоской», — мысленно передразнил Степан сестренку и тут же уснул, не успев погасить грустной улыбки.
5.
Степан проснулся от толчка в плечо. Еле разлепил веки… Прямо над собой увидел бледное лицо Рыбакова. Степан спросонья не разглядел жалостливого выражения рыбаковских глаз. А тот, увидев, что парень проснулся, выпрямился, отошел к столу.
— Вставай. Сейчас Сазонов придет. Пойдем на фермы.
Степан вскочил на ноги. Одернул гимнастерку, подпоясался. Примял ладонью волосы, сонно поморгал красными, припухшими веками, зевнул и пошел в угол, где стояло ведро с водой.
В сенях послышался топот ног, голоса. Вошел Сазонов вместе со счетоводом — горбатым длинноносым мужиком в добротном белом полушубке. Поздоровались. Счетовод сразу присел к столу и через минуту защелкал счетами.
— Давай подсчитывай, а мы на фермы, — сказал ему Трофим Максимович. Повернулся к Рыбакову: — Пошли?
— Пошли.
На улице распогодило. Ветер стих. В темном небе висели неяркие звезды. В опушенных инеем ветвях раскидистого тополя запуталась бледная горбушка полумесяца.
За ночь ветер намел на дорогу большие снежные барханы. В глубокой тишине отчетливо слышалось тяжелое дыхание Трофима Максимовича, пробивавшего тропу. Шли гуськом, след в след. В одну минуту мороз побелил ресницы и брови, нарумянил щеки.
Деревня еще спала. Лишь кое-где сквозь замысловато разрисованные стекла окон слабо пробивался желтый свет. Кругом — тишина. Ни людских голосов, ни собачьего лая, ни петушиного кукареканья. Только снег скрипит под валенками.
Читать дальше
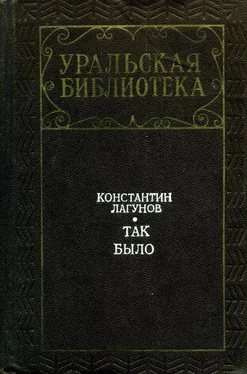

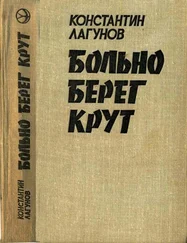






![Константин Лагунов - Красные петухи [Роман]](/books/423980/konstantin-lagunov-krasnye-petuhi-roman-thumb.webp)

