Когда рассвет заглянул в окошко, они поднялись. Не зажигая огня, тихо, чтобы не разбудить Васену, вышли на улицу. Напоили лошадь, запрягли. Прощаясь, Настя не сдержала скорбного вздоха.
— С чего это? — встревожился он.
— Сама не знаю. — И пошла отворять ворота.
Рыбаков сел в кошевку, подобрал вожжи. Со скрипом распахнулись облепленные снегом створки. Воронко выгнул шею и вылетел на дорогу. Василий Иванович оглянулся. Настя стояла в воротах, подняв над головой руку. Он помахал ей, уселся поудобнее и пустил коня во всю прыть.
3.
Давно скрылся за поворотом тонконогий Воронко, а Настасья Федоровна все стояла у распахнутых ворот и глядела вдоль дороги. В окнах дома напротив затеплился желтый огонек. Над снеговой папахой, нахлобученной на самые оконца, взлетела сизая струйка. Она росла на глазах, становясь гуще и темнее, и скоро из трубы потянулся широкий столб дыма. Он поднимался круто вверх, будто ввинчиваясь в бледно-серое небо. Вот еще над одной крышей закурчавился дымок, еще, еще. Над деревней поднялся целый лес дымовых стволов. Забрехали собаки. За спиной звякнула щеколда, проскрипел снежок. Настасья Федоровна оглянулась. Васена с подойником на руке шла в стайку.
— Что так рано?
— В самый раз.
Настасья Федоровна не спеша закрыла ворота, задвинула тяжелый деревянный засов и медленно пошла через двор к крыльцу. Поднялась на него, постояла в раздумье, прислушалась к голосу Васены, долетавшему из стайки, и прошла в дом.
Разделась у порога, да тут же и присела на сундук.
Вот и все. Снова кончилась радость, и опять одиночество. Одиночество и работа. Неуемная и тяжкая, от которой к вечеру голова кружится и ноги не держат. Семена, корма, топливо, инвентарь. Обо всем надо подумать, обо всем позаботиться. С чем бы кто ни приехал в колхоз — все идут к председателю. Просят, требуют, даже угрожают. Сколько людей за день перебывает в правлении. С радостью, с горем, с надеждой. Она и всплакнет с осиротевшей вдовой, и порадуется с матерью, узнавшей о награждении сына, и утешит солдатку, опечаленную долгим молчанием мужа. Ее на всех хватает. А ведь она и сама человек. Обыкновенная баба. Ей тоже ох как хочется с кем-то поделиться думками, посоветоваться, излить душу. А с кем? Васена все время молчит. Ей что ни скажи, то и ладно. А кому другому сердце откроешь? Начнутся суды да пересуды. Не за себя страшно: она ничейная. За него. Нельзя, чтоб о нем плохое подумали. А на чужой роток не накинешь платок. Любят люди посудачить о начальстве. Да еще о таком. Дай только повод — все косточки перемоют, с песочком перетрут. Вот и приходится молчать, да и виду не показывать. У баб зоркие глаза, на аршин в землю видят, а до сердца-то всего вершок. Ну, как заглянет туда какая-нибудь? Распухает голова от невысказанных слов, саднит сердце от невыплаканных слез. Только и утешение в сладких думах о новой встрече и о сыне. Имеет же она право на сына! Не пустоцветом век красоваться, не бесследно по жизни пройти.
Длинна зимняя ночь. Чего только не передумаешь, пока дождешься рассвета.
Не шли, а тянулись серые зимние дни, одинаковые и непохожие друг на друга. Рыбаков не появлялся и не звонил. Настасья Федоровна ловила слухи о нем, как бы между прочим пытала уполномоченных: «Где товарищ секретарь?» Один ответ: «В колхозах». По ночам подолгу думала о нем и жалела его глубокой материнской жалостью: «Не бережет себя мужик. Загонится, запалится».
И тянулись, тянулись журавлиной цепочкой однообразные дни. Вдруг…
Когда впервые почувствовала это — не поверила, заставила себя не поверить… Впервые в жизни ее охватил какой-то суеверный страх. Казалось, если поверить по-настоящему — обязательно не сбудется. Долго сомневалась и наконец уверовала. И сразу все изменилось. Берегла себя, боялась тяжелой работы, даже походка стала иной, медлительной и плавной. По ночам она не спала: все прислушивалась, не подаст ли ребенок знак о себе, а сама беззвучно шептала:
— Васенька, сыночек мой, кровиночка моя. Скоро мы увидимся.
Осторожно ворочалась с боку на бок и думала не о себе, а о них, о двух Василиях, о двух Рыбаковых. Один в это время был где-то в пути, или сидел на заседании, или спал на тулупе в колхозной конторе. А другой, другой жил еще только для нее, жил у нее под сердцем.
1.
Деревня вытянулась вдоль дороги и затаилась, прижавшись к земле. Три года войны сделали ее неузнаваемой. Покосились ворота, повалились заборы, опустели амбары. Оскудела людьми, притихла, пригорюнилась деревня. Зимой рано затихала она, погружаясь в темноту и тишь. С лучиной да коптилкой долго не повечеряешь. Да и за день-то так надергаются, намотаются люди, что рады-радешеньки ночи. Ничто не нарушает ночного покоя селян — ни гармонный перебор, ни девичьи припевки. В клубе — давно не топлено, стены и потолок инеем подернулись. Там собираются раза два-три за всю зиму. Был бы в деревне какой завалящий гармонист, девки нашли бы время и попеть и потанцевать. Но гармониста не было. Есть в селе несколько парней-трактористов, так те всю зиму в МТС. Есть пятеро инвалидов, безрукие либо безногие — они с солдатками бражничают, с бабами потешаются, торопятся насытиться жизнью, наверстать оставленные на войне годы.
Читать дальше
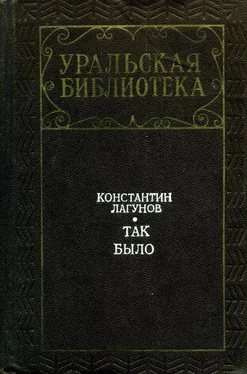

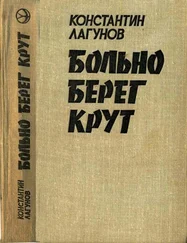







![Константин Лагунов - Красные петухи [Роман]](/books/423980/konstantin-lagunov-krasnye-petuhi-roman-thumb.webp)

