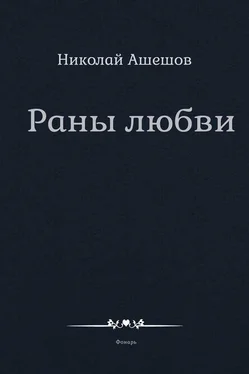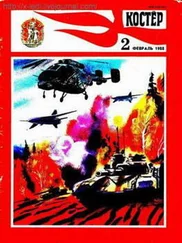И, искривив губы, студент быстро вышел.
Боренька не вытерпел и подошел к Трофимычу. Но хозяин ничего не ответил ему на вопрос, и его холодное, недоступное лицо не говорило ни о чем.
Со смутной тревогой вернулся Боренька к своему столу.
Ресторан стал наполняться. Вскоре пришли и товарищи Бореньки и удивленными возгласами встретили появление редкого гостя.
IV
— Борька, ты угощаешь! Кончил, так, брат, угощай! А мы еще засидимся и в университете, и в «Раздолье». Еще поторгуем с Трофимычем.
Говорил бородатый медик последнего курса Хмельницкий, университетская знаменитость. Вечно пьяный, он поражал профессоров своими изумительными способностями. У него был какой-то дар диагноза. Во всех, самых трудных случаях, когда не только студенты, оканчивающие медицинский факультет, но и профессора затруднялись определить болезнь, являлся веселый Хмельницкий и с необычайным добродушием исследовал больного. Шутил, смеялся в перерывах. То качал головой, то улыбался. И потом, встряхнув длинными, густыми волосами, ставил точный и определенный диагноз, к удивлению всех присутствовавших.
Правда, он работал много, но всегда при этом, хотя бы и малыми дозами, но пил. И профессора смотрели на него, как на конченного человека, как на отпетого алкоголика, утопившего в вине богатейшие способности. Но вино не только не ослабляло, но, казалось, даже увеличивало дар его диагностических прорицаний, и невольно все уважали этого пропащего человека, которому природа случайно подарила свой талисман.
— Да откуда это у тебя, Хмельницкий? — спрашивали студенты.
— А так, — отвечал он. — Захарьин тоже студентом отлично ставил диагнозы. Это, брат, все равно, как талант писателя или художника. Даст Бог — ладно. Не даст, — никакая наука не поможет. Вот тысячи профессоров после Захарьина были и умнее, и глубже, и знали больше, а вот поди ты, второго-то Захарьина нет как нет…
Хмельницкий был сегодня в ударе. Ему предложили готовиться к профессорской кафедре после одного блестящего диагноза, когда он распознал скрытую крымскую лихорадку. Давали большую стипендию, но поставили условием не пить.
И Хмельницкий немедленно отнес свою радость в кабачок к Трофимычу и произвел сенсацию своим новым заявлением.
— Угощай, угощай, Боря, черт бы тебя побрал с твоей неведомой тетушкой и с твоими гнусными юридическими науками. Иди в прокуроры и ссылай нашего брата в Сибирь. А пока что, угощай! Потому у меня сегодня мальчишник. С завтрашнего дня я, брат, с госпожой трезвостью обвенчаюсь. Ни-ни, ни капли в рот алкоголю. И дорогу к Трофимычу забуду.
«Раздолье» хохотало. Трезвый Хмельницкий был бы большим чудом, чем пришествие антихриста. И даже по лицу Трофимыча пробежало что-то вроде усмешки и застыло в углах рта.
А Хмельницкий злился и, стараясь заглушить своим мощным басом гомерический хохот, клялся и божился всеми богами, что он сегодня в последний раз пьет водку и пиво.
Боренька разошелся. Что-то подмывало его, что-то искушало развернуться пошире и хоть раз проявить молодецкую удаль, так мало шедшую к его застенчивому лицу.
На столе появился сразу коньяк.
— Ого-го! — приветствовали его появление студенты, а совсем мальчик-юрист I курса Холин затянул тонким голоском:
Пей коньяк однажды,
Попадешь ты дважды
Прямо в рай.
Пей коньяче, дьяче,
А не то иначе
Живо умирай…
— Да откуда это ты, чертова кукла? — закричали Холину.
А Холин вскочил на стул и, размахивая руками, продолжал:
— Ну, подпевайте, братцы:
Должен всяк
Пить коньяк.
Раз!
Преферанс-ку-ку,
Слава коньяку
Два-с!
Мотив, тотчас подхватили, и новая песня разлилась по «Раздолью».
Но Трофимыч уже двигался, недовольный, к столам, и песня смолкла.
— Это у нас в семинарии сочинили, — хвастал Холин. — А то есть еще…
Но на Холина зашикали со всех сторон, и спокойствие восстановилось. Петь в ресторане было запрещено, и только своим авторитетом Трофимыч удерживал студентов в повиновении.
Боренька пил коньяк с лимонадом, и ароматный напиток все приятнее и приятнее подымал его настроение. Товарищи шумели, кричали, спорили; смеялись, рассказывали анекдоты. Боренька плохо слышал их. Сладостный туман заволакивал его душу, сердце, глаза. И ему рисовались нежные голубые глаза и алый ротик с белыми крошечными зубками, и слышались опьяняющие слова, робкие и тихие, но жгучие и сладостно-истомные. Билось сердце перебоями и хотелось встать, крикнуть громко, буйно-мятежно и заставить всех замолчать и среди глубокого, нежного молчания рассказать всем про свои красивые предчувствия, рассказать тайны своего юного сердца, никогда не думавшего, что счастье может быть таким близким.
Читать дальше