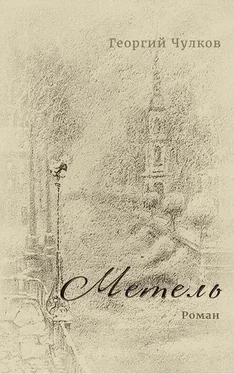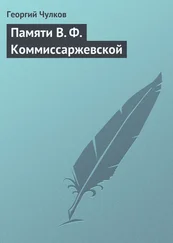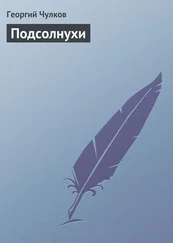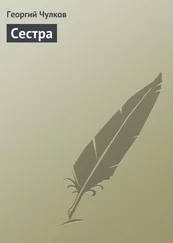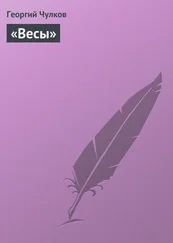— Почему же, однако, следует?
— Противоестественно как-то, что настоящий художник задыхается в нужде, а мы с вами благополучны.
— А вы? Почему же вы сами? — неосторожно спросил Паучинский.
— Господин Полянов у меня денег не возьмет.
— Вот как! Вы, кажется, были с ним когда-то знакомы?
Князь нахмурился:
— Был. Давно.
Паучинский пристально посмотрел на князя.
— Если вы находите нужным, тогда разумеется… Одним словом вы можете располагать мною, князь, как вам угодно.
Князь кивнул головою.
— Я бы хотел, чтобы вы дали Александру Петровичу Полянову ту сумму, в которой он нуждается, под известным условием…
Князь помолчал.
— Вы дадите деньги под вексель под условием, чтобы и все прочие векселя, выданные Александром Петровичем разным лицам, были сосредоточены в ваших руках, — сказал, наконец, князь. — Он вам сам укажет, как это сделать. Это последнее условие я считаю необходимым. Вы понимаете? Я очень ценю дарованье Полянова и заинтересован в том, чтобы он освободился, наконец, от кабалы, в какую попал. Если все его векселя будут в ваших руках, я буду спокоен. Вы меня посвятите, надеюсь, в эти ваши финансовые операции с господином Поляновым. Только он сам об этом ничего не должен знать, по крайней мере, в течение известного времени. Если у вас нет сейчас свободных денег, Семен Семенович, я вам охотно дам сколько вам понадобится. И гарантии вам дам какие угодно. Я полагаю, что эти поляновские векселя так и останутся у вас, но, если обстоятельства сложатся как-нибудь иначе, я у вас их покупаю. Во всяком случае вы ничего не теряете. Понятно?
— О, конечно! И никто не должен знать о вашей заинтересованности в судьбе господина Полянова?
— Это уже, кажется, было у нас решено, — небрежно уронил князь.
— Все-с?
— Я полагаю.
— А я все-таки, князь, попросил бы вас уделить мне когда-нибудь некоторое время на другого рода беседу.
— Пожалуйста. Охотно. Но сегодня я… Сегодня не могу… я занят сегодня…
— Я понимаю! Я понимаю! — поспешил обнаружить свою почтительность господин Паучинский.
Он уже раскланивался, стоя на пороге комнаты, когда князь вдруг задал ему несколько неожиданный вопрос.
— Вы это серьезно? А? Вся эта ваша теория «морального равновесия?» Что такое? А? Мне про нее Сусликов рассказывал…
— А разве неубедительно? — усмехнулся Паучинский.
— Я не совсем понял. Может быть, это Сусликов напутал.
— Дело-с ясно, — сказал Паучинский самодовольно. — Все без исключения склонны или к садизму, или к мазохизму, но, к несчастью, не все сознают в себе соответствующие стремления. Одни созданы для того, чтобы совершать некоторое так сказать насилие в жизни, другие, напротив, предуготовлены к тому, чтобы пассивно этому насилию подчиняться. И в том, и в другом есть особая радость, наслаждение и удовлетворение. Но вот, в силу исторического недоразумения, садисты стыдятся своих натуральных желаний, а мазохисты не хотят сознаться в своем предназначении, которое одно только и могло бы их удовлетворить. Моя программа заключается в том, чтобы каждый признался самому себе с откровенностью, к чему у него лежит сердце. Тогда все окажутся на своих местах и восторжествует самая настоящая справедливость: и насильники, и жертвы будут блаженствовать, не отказываясь от своей природы. Разве это неразумно? Разве это непоследовательно?
— И это называется теорией морального равновесия?
— Вот именно.
— Так, значит, вы это серьезно? Сусликов точно изложил?
— Филипп Ефимович — человек не без тонкости.
— Во всяком случае вы поймете друг друга, — пробормотал князь.
— Вот именно.
Паучинский еще раз поклонился и взялся за ручку двери.
— А почему вы мне сегодня про этих Брейгелевскнх «Слепых» рассказали? — крикнул сердито князь.
— Без всякой тенденции, — развел руками Паучинский. — Неужели вы во мне, князь, бескорыстного эстетизма не допускаете? Ну, а если вам хочется непременно в этой картине увидеть символ, то ведь все равно его словами не изъяснишь. На то он и символ, чтобы намекнуть на нечто несказанное. Я так понимаю. А если вы не побрезгуете грубой аллегорией, князь, все человечество, пока моей моральной теории не примет, будет находиться в положении Брейгелевских слепых. Я в этом уверен и вовсе не шучу.
Князь откровенно рассмеялся:
— Я вижу, что вы серьезно. И вы, оказывается, моралист! Что ж! Ваша теория не хуже многих иных.
— Лучше! Несравненно-с лучше! — откликнулся Паучинский и тотчас же скрылся за дверью.
Читать дальше