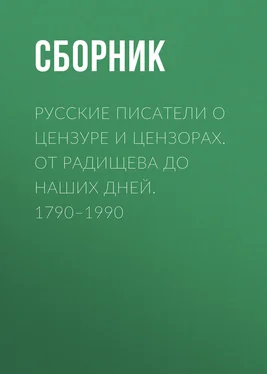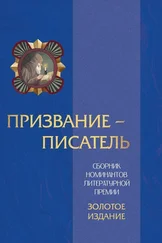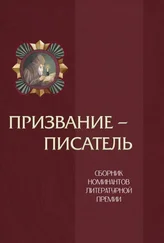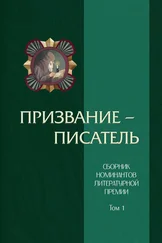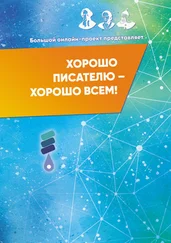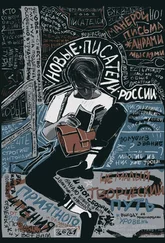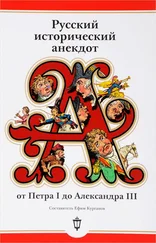А. С. Пушкин, который, надо сказать, относился к этой многострадальной книге и ее автору весьма критически и без принятого (особенно в позднейшее время) безоговорочного преклонения и восхищения. По мнению С. А. Фомичева, не стоит ставить знак равенства между мыслями и рассуждениями «путешественника» и самого Пушкина: «Мысль – в пределах закона? Стало быть, сама мысль может быть подсудна? Вполне очевидно, что это не может быть пушкинским убеждением». Спор с Радищевым ведет «московский старожил», исповедующий консервативно-охранительные взгляды, но не чуждый идеям «просвещенного монархизма». Пушкин в этом сочинении как бы сталкивает два взгляда – консервативный и радикальный: «Пушкин противостоит посягательству кого-либо на поиски истины, невозможные без полной свободы мысли» ( Фомичев С. А . Скучная книга // Фомичев С. А. Праздник жизни. Этюды о Пушкине. СПб., 1995. С. 298).
Процитировав слова о свободе мысли: «…как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом », исследователи замечают: «Пушкин был совершенно прав, потому что ни в одном обществе свобода печати не бывает абсолютной. Через несколько десятилетий на другом континенте Марк Твен остроумно заметит, что пора подумать о том, как оградить свободу от печати… Различия начинались там, где возникал вопрос, что понимать под “обществом”, и каковы условия, которые оно налагает. В России было несколько обществ и много условий». Они называют далее «общество» царя, III отделения, двора, «общество Фаддея Булгарина», «общество Пушкина и его друзей». «И были другие общества, вплоть до “общества” неграмотного крепостного крестьянства» ( Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И . Сквозь «умственные плотины»:
Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. М., 1986. С. 241). Какое из них – вот вопрос!..
Отношение Пушкина к цензуре затронуто и в его статье «Александр Радищев», которую он столь же безуспешно пытался опубликовать в «Современнике». Касаясь рассуждений Радищева о цензуре, Пушкин замечает: «…он злится на ценсуру; не лучше ли будет потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы, с одной стороны, сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар Божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы; а с другой – чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой и преступной? Но всё это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы – чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью».
Несмотря на такую осторожную тональность, статья вызвала следующую резолюцию министра народного просвещения Уварова (18 августа 1836 г.): «Статья по себе недурна, и с некоторыми изменениями могла быть пропущена. Между тем нахожу неудобным и совершенно излишним возобновлять память о писателе и книге, совершенно забытых и достойных забвения». Через четыре года он же, когда вновь рассматривалась эта статья на предмет разрешения ее публикации в посмертном собрании сочинений, писал: «При рассмотрении этой статьи я нахожу, что она, по многим заключающимся в ней местам, к напечатанию допущена быть не может, и потому предлагаю сделать распоряжение о запрещении её» ( Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И . Указ. соч. С. 107–108).
Характерно, что либеральный профессор и цензор А. В. Никитенко, автор знаменитых дневников, рассматривавший тексты собрания сочинений 1841 г., в числе «сомнительных» текстов указал именно эту главу: «Статья о ценсуре, где автор опровергает разные нападки на необходимость ценсуры». Этот факт точно прокомментирован: «Статья о ценсуре» и «Этикет» (отрывки из «Путешествия из Москвы в Петербург») вызывали сомнение, ибо касались – пусть в «благонамеренном» духе – тех форм социальной жизни, которые вообще не подлежали обсуждению со стороны частного лица» ( Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И . Указ. соч. С. 239). В связи с этим важно заметить, что ни один из текстов, приведенных выше, не увидел свет при жизни автора; иное дело, что « презревшие печать », как сам Пушкин писал в раннем «Городке» о бесцензурных рукописях, они были известны современному ему обществу. Цензурные учреждения, надо сказать, всегда крайне щепетильно и ревниво относились к «чести своего мундира», тем более что в их распоряжении находились эффективные средства, пресекающие любую возможность не только критики, но даже упоминания в печати (как это было в советские времена) самого факта их существования.
Читать дальше