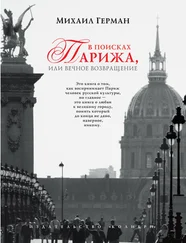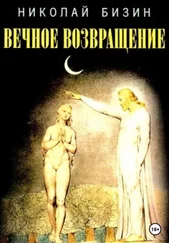Вспомнил о нем во «Вступительном слове» к сборнику «Советский рассказ 20—30-х годов» (1990) Ю. М. Нагибин. Написал, страстно осуждая сталинскую расправу с писателями: «Был разгромлен один из лучших новеллистов нашей литературы Владимир Козин, нежно любимый Андреем Платоновым, которого к тому времени (подразумевается 1937 год) вовсе перестали печатать. Помню, как многие недоумевали: а Козин-то чем не угодил? Ни в политику, ни в государственные заботы он не лезет, пишет о нежных, чистых людях, поет их добрую любовь, радость жизни, единство с природой. А вот этого-то не положено винтикам. Нельзя растрачивать свои чувства на посторонние предметы: любить надо Сталина, ему же радоваться, с ним объединяться. Читая Козина, можно подумать, что прелесть жизни разбросана по всей земле, а не сосредоточена в одном человеке с трубкой. Козин казался с виду крепким, веселым, жизнерадостным малым, но душа у него была хрупкая и сломалась. Он жил и писал еще много лет, но писателя Козина, каким он был в тридцатые годы, не стало».
Высветив в прошлом уголок, в котором видим неких любящих Козина и болеющих за него душой читателей, энергичное и проникновенное нагибинское слово тем не менее обрывается в пустоту, не произведя ничего дельного, поскольку ни одна строчка «одного из лучших наших новеллистов» в упомянутый сборник так и не оказалась включенной.
Роль литературных Шлагбаумов в писательской судьбе Козина и посмертном его забвении более или менее ясна. Но гораздо ценнее для нас утвердить ту в сущности простую истину, что не они определяли становление и развитие его замечательного дара рассказчика. Небольшую повесть «Как я учился писать» Владимир Романович начинает следующим образом: «Моя литературная родина – Туркмения, страна пустынь и знойных оазисов. В Туркменистане во мне созрело чувство простора – эта первая мужественность писателя, – любовь к разнообразной обширности человеческих дел, замыслов, свершений.
Дотуркменская моя жизнь изобиловала живыми связями с советским Востоком: Дагестан, Кабарда, Баку, Азербайджан, – жестокая борьба с саранчой на иранской границе, конные скитания в неведомых горах Курдистана, научные экспедиции в Низменном и Нагорном Карабахе».
(…) В пустыне я понял силу неожиданных красок: днем – бледное небо и бледные измятые пески, больше ничего; вечером – великий закат спускается с неба в голубых, лиловых, оранжевых, красных, зеленых, синих полосах, они переливаются, живут, пылая внезапно; от этой легкой бесконечности всех цветов и оттенков нельзя оторвать воспаленных глаз.
Я возвращался из пустыни в оазис, полный горячих воспоминаний. В полуденный зной, когда и куры в своих тенистых ямках дышали, раскрыв клюв, я – голый – садился в угол своей фанерной комнаты и, заливаясь потом, писал обо всем, чем поразила меня пустыня.
Я писал и в походных палатках, лежа на животе, когда дул свирепый «афганец» и заветренный песок засыпал мои листы, и в глинобитных кибитках у звонких арыков или тихих колодцев, на коврах и пыльных кошмах, рядом со спящими пастухами, исследователями, строителями, заготовителями. Я был переполнен суровой, отчетливой жизнью – своей, своих товарищей по опасностям и труду, своей страны».
О том, что присуще его рассказам в полной мере – образности и краткости – Козин рассуждает так: «Эстетическая энергия образа зависит от реализма воображения, то есть от полноты, противоречивости, убедительности сочетаний, слагающих строение, единство образа. Чем противоречивее образ (…), тем образ жизненнее. (…) Потеря образа – великая потеря: она влечет за собой утрату эстетически деятельной, действующей в смене поколений, энергии образа, утрату народности.
Народ лаконичен в своих образных суждениях, сказках, былинах, летописях. Труд новеллиста обязывал меня быть кратким. Меня всегда радовало трудное сочетание точности и краткости. Новее сущее должно развиваться, дабы не отмереть. Возможности свободного развития искусства слова безграничны. Древний лаконизм прекрасен, но человечество жаждет обогащения и обновления прекрасного. Возникает новизна краткости, уплотненности – неолаконизм».
И Владимир Романович приводит пример того, как он учился краткости: «Всю осень 1932 года я писал большой рассказ «Кресло директора». Рассказ волновался, то вздымаясь, то опадая. Мальчишеские восторги сменялись мужицкой яростью, матросскими угрозами по своему собственному адресу. (…) Множество привычных слов не звенело, не строилось литыми строками, не было убедительным, все бывшие слова я выталкивал, выгонял, как лодырей, жадно выбрасывал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу