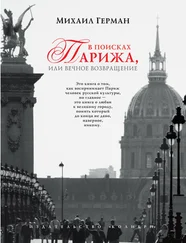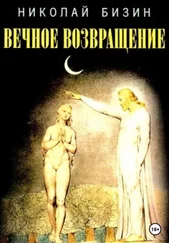Он отвернулся от нас и крикнул сыну:
– Luci! viens ici [4].
Мы не поняли французской фразы, но хорошо почувствовали ее смысл, когда Люси с готовностью подбежал к отцу. Прядавший ушами тонконогий скакун повернул к нам рассеянный и взнузданный взгляд.
– Viens ici, viens ici, – неспешно повторил Рено своему сыну, остановившемуся на подножке экипажа, – tu as couru plus, qu'il faut [5].
Люси сел в коляску и спросил отца:
– Кто эти мальчишки?
– As-tu besoin de le savoir? [6]. He смотри туда.
Люси взял в руки вожжи, и в этот момент я во внезапном смущении оторвал взгляд от коляски.
Перед моими глазами пронеслась далекая сияющая колокольня и я снова почувствовал зной, вскипавший на земле слитным звоном кузнечиков. Потом я увидел брата, голубыми глазами догонявшего тронувшийся экипаж. Я растерялся в этот момент. Мне хотелось броситься за экипажем и бежать за ним, задыхаясь и иссыхая в дорожной пыли, лишь бы не терять из вида сидевших в экипаже людей.
Но я остался на месте и, вдруг вскипев, закричал певуче и звонко внезапно пришедшие на ум слова:
– Люси, Люси! На-ко, укуси!
И тут же повторил свой крик.
Ко мне медленно повернулось холодное озирающее лицо, и голубые шины скрылись в дорожной пыли.
Саша стоял позади меня и тянул за рубашку:
– Идем, идем! Что ты делаешь? Он нажалуется папе!
Мы пошли в лес и пробродили там почти до вечера.
Когда мы возвратились домой, нас встретила в прохладных сенях мать.
– Что вы наделали? – огорошила она нас внезапным вопросом.
– Что?
– Идите к отцу… он ждет вас уже час.
Мы пошли в отцовский кабинет.
– Это что? – резко спросил отец, когда мы, задыхаясь, остановились перед ним.
Мы молчали.
– Кто это сделал? – спросил отец снова, как помеху, выбрасывая слова.
Мы молчали.
– Сейчас же ступайте туда, – говорил отец, путаясь между нас глазами, – просите прощения, и без этого не возвращайтесь.
Мы вышли из дома. После знойного дня стояла тишь, река в вечернем блеске казалась воздушной и высоко на горизонте толпились розовеющие поля.
Я был в каком-то тумане и меня не обременяло даже то, что я должен буду просить прощения, не чувствуя за собой вины.
В белом доме, который терял теперь свою таинственность, нас встретила горничная. Она не могла понять, что нам нужно и, наконец, сломленная нашим упорством, повела нас в сад – к Рено.
В саду благоухали цветы. Целая стена привитых диких роз разливала маслянистый аромат.
Никогда не виданные нами клумбы, черные от вечерней поливки, казались огромными могилами.
Мы шли босиком и остывавший песок осыпал наши разгоряченные ноги.
В белой резной беседке, куда мы поднялись, – сидели на плетеном диване Рено и Люси.
Увидев нас, Люси прижался к отцу и боязнь, возбуждавшая отца, глядела из глаз мальчика. Он, наверное, жестоко заплакал бы, если бы Рено стал бить нас.
Я быстро подошел к Рено и, опустив глаза, искренне сказал:
– Простите меня.
– Ты передо мной не виноват, – раздельно сказал Рено, – проси прощения у Люси.
Я мельком взглянул на Рено и потом увидел перед собой обиженные глаза мальчика, открытые передо мной широко и пугливо.
Я ничего не говорил и молча трогал просиявшим взглядом беспутные, вздрагивающие веки врага.
– Ну, – сказал Рено.
Я молчал.
– Ну, о чем же ты думаешь?
На одно мгновение что-то сдавило мне горло и я совершенно неожиданно для себя всхлипнул.
Услышав, как Рено нервно встал и сказал брезгливо: «Это просто больной ребенок», – я вздрогнул и, как-будто почувствовав, что плакать мне не перед кем, затеребил обвисшую пуговицу на своей кумачевой рубашке, оторвал ее, посмотрел невидящими глазами на Рено, подошел к Люси, и, видя прямо перед собой его побледневшее лицо и светлый галстух, крикнул жарким, надтреснутым голосом:
– Люси, Люси, на-ко, укуси!
Люси громко, навзрыд заплакал.
Звенит лед на речке. Звенят фарфоровые деревья, хрупкие от инея.
Черемуха на склоне облеплена снегом.
Еще полчаса и на фабрике, что мерещится в сумерках белой льдиной, вспыхнут желтые огни.
Синие сумерки заливают окрестность. Она сквозит меж заборов и пустырей, встает на склонах холмов, за которыми – бог весть какие! – творятся чудеса.
В трескучие морозы проходят по нашему двору, по тропинкам через реку, по деревянному мосту, по овражкам, разбросанным по селу – старые женщины. У них от мороза, чтобы не застудить дыханье, платком перевязаны рты. Давно когда-то бабушка попугала меня: «вон, баба-яга идет». И с тех пор, на годы осталась в памяти: старуха с перевязанным ртом – баба-яга.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу