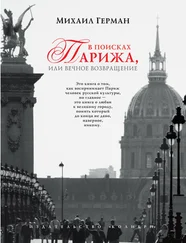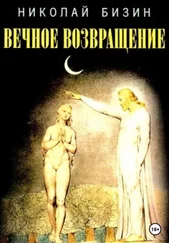В детскую вошла мать:
– Ну, как тебе не стыдно, Миша? – сказала она. – Будет уж дуться. Иди попроси у папы прощенья.
Казалось, я только этого и ждал. Сойдя с дивана, я пошел в спальню, где умывался отец, и на секунду в нерешительности остановился у дверей. Отец открыл дверь перед моим носом.
Не смахивая слез и сопя, я сказал:
– Папа, прости!
Отец положил руку на мою голову, погладил ее легонько и ответил:
– Ну, ну, будет тебе – иди умойся.
Я подошел к умывальнику и, брызгая холодной водой на щеки, зачерствевшие от слез, почувствовал вдруг жар натопленных комнат и домовитый запах крашеной печки.
Я утерся сухим полотенцем и потом, жмурясь от света, вошел в столовую.
Извозчик, мрачный, с густой окладистой светло-рыжей бородой, с отвислой нижней губой, с низко нависшими на тёмно-жёлтые глаза бровями, круто повернул рыжую, под свою масть, кряжистую, сытую кобылу и поехал по глубокому, по ступицу, тёмно-белому песку в тупик, в мрачный угол соединившихся двухэтажных корпусов. Лошадь, тяжело дыша и хлюбко цокая ослабшими подковами, лениво переступала, а колёса, раскачивая телегу, неприятно скрипели втулками от попавшего в них песка по дубовым толстым осям. Тут, в тупике, не было того ослепительного солнца, что сияло над песчаной серебристой дорогой, хорошо промешанной колёсами, копытами лошадей, стадом рогатого скота; тут, в тупике, не было и того невыносимого горячего солнца, что было над уездным городом, который ярко переливался, блистал черепичными и железными крышами, а было мрачно, как и на лице извозчика; тут, в тупике, было пустынно, не было ни одной живой души, ежели не считать пары тёмно-сизых голубей, сидевших так кротко на наружном выступе подоконника плотно закрытого окна, и длинных перил для привязи лошадей. Вот в этот самый что ни на есть мрачный тупик въехал извозчик, и его рыжая кобыла грузно упёрлась широкой мускулистой и тёмной от пота грудью в обгрызанные и обшарканные перила, из шероховатости которых торчали пучки разномастной шерсти грив.
– Приехали, – проговорил равнодушно извозчик, вытянулся на грядке и как-то сразу соскользнул и стал на ноги, обутые в лапти, тащившиеся до этого волоком по песку дороги, направился к лошади и стал её рассупонивать и обряжать кормом.
– Приехали, – немного погодя, повторил недовольно за извозчиком молодой человек, инструктор губи-сполкома, и не шевельнулся ни одним мускулом. Молодой человек, облокотившись правым локтем в душистое светло-синее сено, плотно примятое за время долгой дороги, полулежал на правом боку, равнодушно покусывал соломинку и откусываемые кусочки выплёвывал на телегу, а некоторые висели у него на хорошо выбритом розовом подбородке. Однако, нужно сказать, что инструктор губисполкома был страшно недоволен такой некомфортабельной поездкой. Ему не нравилась громоздкая простая телега, пахнущая присохшим к её грядкам и к настилу навозом, ему и не нравилась разбитая глубокими колеями просёлочная дорога, несмотря на её особенную красоту и на всю прелесть палевого цвета. Его и не радовали поникшие тяжёлым колосом моря ржаных полей, моря белёсого овса, поразительная крупитчатая белизна гречихи, над которой и в которой такой стоял потрясающий звон и гул пчелиного восторженного труда, что, слушая этот труд, всё существо инструктора губисполкома должно было бы захмелеть и закружиться от восторга. Его и не радовал слишком жаркий день, что, как казалось ему, молодому человеку, только на него одного навалился своим беспощадным зноем и готов был его задушить. Ему и не нравилось и даже угнетало его ошеломляюще глубоко распластанное голубое небо со всеми песнями жаворонков… Одним словом, он был ужасно зол на эту совершенно, как он подчёркивал внутренне, в себе, неудавшуюся, в смысле удобства, поездку. От этой дороги он чувствовал себя дополна усталым, разбитым и больным. Он хорошо чувствовал, как у него от долгого и слишком неудобного лежания и полулежания в телеге неприятно можжили ноги, ныли плечи, побаливали бока и даже, к его глубокому ужасу, что-то острое три раза кольнуло в сердце. Нужно сказать, его сердце до этой поездки ничего подобного и похожего на эти уколы не испытывало, а тут еще этот, как он называл его, «мрачный тупик» и грязно-красные, покрытые селитрой, стены корпусов. Вообще всю эту работу, которую он проделывал, считал сизифовым трудом, а, главное, она надоела и опротивела ему до тошноты. Он за последнее время разуверился в революции, не верил в её творческие силы, а потому к своей работе – к работе среди крестьянства, к оживлению советов, относился халатно, считал её грязной и ниже своего достоинства или, как он любил выражаться, конечно, не вслух, а только про себя, – он боялся лишиться места с хорошим окладом и ещё с «разъездным доходом», – «возиться в этом навозе и тащить его на социалистическую дорогу». Да и вообще он попал в большевистскую партию случайно, как-то «рикошетом», через две партии – меньшевиков и эсеров, побывав и в первой и во второй в моменты их пышного расцвета и только после двух лет Октябрьской революции вошёл в коммунистическую партию, осел в ней и сидит до настоящего времени, нравственно всё больше разлагаясь… Но делать было нечего, а, главное, было неудобно лежать в телеге, когда извозчик недовольно вытащил из-под него охапку сена, обрядил лошадь и уже, шаря глазами по тупику, отыскивал место, чтобы справить малую нужду, и молодой человек, инструктор губисполкома, медленно поднялся и, перекидывая через грядку длинные ноги, обтянутые узкими брюками в белую полоску и обутые в жёлтые полуботинки, сел на край телеги, касаясь земли модными носками ботинок, и стал вяло и недовольно рассматривать лицевую грязную сторону противоположного корпуса. Глядя на эту стену, инструктор губисполкома неожиданно и как-то вдруг глухо ахнул, сорвался с грядки и, не отрывая улыбающихся и необыкновенно восторженных и так быстро изменившихся глаз, словно в них кто-то невидимый плеснул несколько вёдер радости, стал топтаться на одном месте и лихорадочно поправлять подол парусиновой блузы, освобождая его от стеблей приставшего сена. Глядя на эту стену, он, несмотря на большое количество женщин, с которыми он был близок, на довольно большую оскомину к этим женщинам, вспоминал далёкую молодость, – хотя ему и сейчас было много меньше тридцати лет, – реальное училище, прелестную, одетую в шоколадное платьице и в белый, похожий на пену, фартук, наплечники которого походили на ангельские крылья, гимназистку, у которой были синие глаза и такие тонкие губы, что даже жутко вспоминать, почувствовал чудовищный прилив силы, такой бодрости, которой в нём не бывало и до этой трудной поездки, и сейчас он был готов оторваться от земли и взлететь на ту высоту, на которой неотрываемо блаженствовали его расширенные глаза и наслаждались неожиданной прелестной красотой… И он, инструктор губисполкома, наверное бы взлетел, ежели бы не подвернулся под руку мрачный извозчик и не сказал:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу