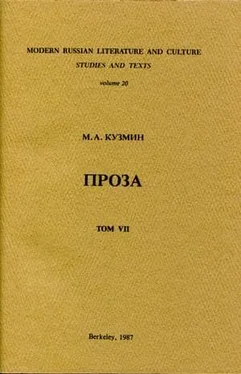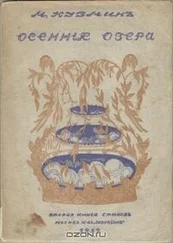Проследив ее взор, он обнаружил невдалеке подвигающегося к ним молодого еще человека. Если бы не состояние Аловой, Павел Николаевич никогда бы и не обратил внимания на этого прохожего, в котором, действительно, не было ничего примечательного. Нельзя же, в самом деле, считать чем-то особенным высокий рост, бритое, довольно красивое лицо и большие продолговатые глаза. Придется признаться, что Павел Николаевич, если не был как следует, влюблен в Алову, тем не менее, имел какое-то сродство душ с нею, иначе, чем же объяснить ту догадливость, с которой он шепнул своей спутнице:
– Он? Кривцов?
Та молча кивнула головою, и, наконец, превозмогая себя, заметила:
– Почта очень запаздывает!
Павел Николаевич предложил было ей руку, но Варвара Павловна виновато отказалась, проговоря несмело:
– Идите, идите, – я сейчас!
Павел Николаевич взглянул было с сожалением, но, увидав это растерянное, вдруг помолодевшее лицо, дергающийся, жалкий рот, только пожал ей руку и пошел не оглядываясь на остановившегося человека.
IV.
Павел Николаевич долго ходил; кажется, никогда еще не делал он такой продолжительной прогулки. Думал он не о международных курортах, не о Карлсбаде, не о Сальдо Маджоре, даже не о Варваре Павловне – бонтонной и хладнокровной даме, – он все вспоминал о несчастной влюбленной женщине, размякшей, с дергающимся ртом, и проклинал судьбу, себя, обстоятельства, что не для него изменилось это благородное лицо, не его приближение вызвало краску на эти бледные щеки.
Уходившись, он несколько успокоился, во всяком случае, пришел в приличный вид; встреч с Аловой избегал. Лирически они ни к чему бы не привели, а в сочувствии и сожалении его Варвара Павловна, видимо, не нуждалась. Впрочем, он иногда видел ее с Кривцовым, снимал шляпу; дама приветливо кивала головой и, вообще, как-то переменила тон: стала менее комильфотной, но более веселой и привлекательной. Павел Николаевич все ждал, когда Кривцов побьет свою подругу, но даже курортные сплетни не доносили таких слухов.
– Может быть, она мне все наврала, и этот Кривцов – порядочный человек, хотя вид у него мальчишки и дряни.
Наконец, он встретил Алову одну. Были уже сумерки, и она торопливо без дорожки пересекала лужайку. Увидев Павла Николаевича, остановилась было, но потом приветливо пошла к нему навстречу, даже прибавила шагу.
– Как давно я вас не видела!
– Да, вам теперь не до меня!
– Вы меня считаете, вероятно, очень слабохарактерной? Тот пожал плечами.
– Да вы и не ошиблись бы. Иногда я не владею собою.
– Вы любите его?
– Вероятно. Я не знаю. Я не скрываю, не обманываю себя, что в сущности – дрянцо…
Павел Николаевич кивнул головою печально и довольно.
– …Но у него такие глаза. Я думала от них избавиться вот уехала, но оказывается, что они (глаза-то) все те же, те же! Я знаю, что это слабость, очень, физическая … а может быть, и нет. Это – таинственно, но физические движения еще таинственнее, чем какие-нибудь душевные, необъяснимее во всяком случае.
– Он изменился по крайней мере?
– Мало.
– Будет опять все по-прежнему.
– Боюсь, что да.
– И все – случай. Вы уже успокоились, забыли его. Если бы почта не запоздала, вы могли бы уехать дальше. А тут он застал вас врасплох, не приготовленной.
– Да, да… хотя, должна признаться, что приезд Виктора Феодоровича не был так неожидан… Дело в том, что это я первая писала ему, звала его и ждала ответа…
– Так зачем же вы благодарили почту и вообще все выставили несколько в другом свете?.
– Ах, я хотела быть другой, для вас, для себя. Может быть, я по-настоящему-то совсем другая, такая, какою вы меня себе представили. Я себя очень люблю такою. Но только увижу глаза, те же глаза … и … Я даже не знаю, где я – настоящая…
I.
Каспару Ласке было около тридцати лет. К этому возрасту можно было бы уже иметь более или менее определенное положение, а не скитаться бездомным фантазером, тем более, что Ласка был человек семейный, и небо наградило его двумя детьми, отозвав от жизни мать их, кроткую Эмму. Каспар был не чистым итальянцем, хотя и жил более пятнадцати лет во Флоренции; мать его была из Чехии; может быть, оттого в его характере, кроме беспечности и некоторой лени, была и мечтательность, и известное упорство. Нужно было не мало всех этих свойств вместе взятых, чтобы безропотно переносить жизнь, которую вел Ласка. Он был музыкантом и не таким, которому было бы достаточно придумать с десяток сладких мелодий, подписать к ним какой попало генерал-бас и стряпать таким образом по две оперы в сезон для провинциальных театров; но Каспар слышал уже раскаты Глуховой «Ифигении в Тавриде», он со слезами перелистывал «Идоменея» другого Божьего вестника – Моцарта, он имел высокое, благоговейное понятие об искусстве, при котором очень трудно переносить, повторяю, такое существованье, какое вел Ласка.
Читать дальше