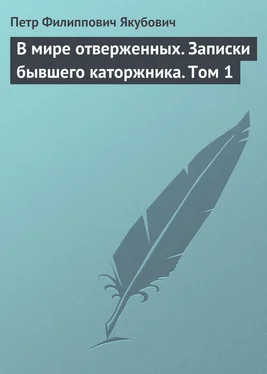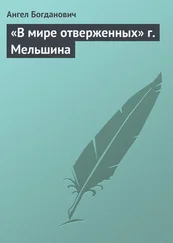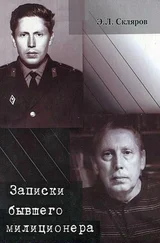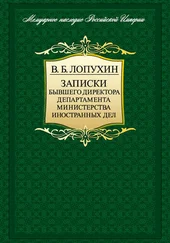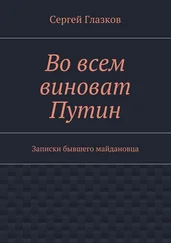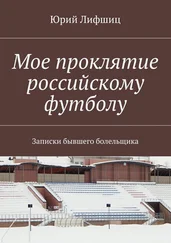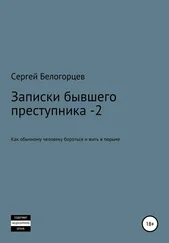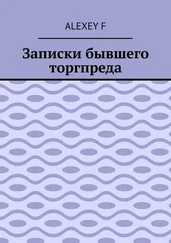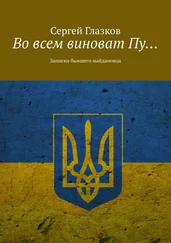Сясть, сял — сибирское произношение вместо «сесть», «сел». ( Прим. автора.)
Кольцовская песня, сильно переиначенная. (Прим. автора.)
Стихотворение А. В. Кольцова «Два прощанья», значительно измененное.
Инструкции горного ведомства строго предписывают в тех случаях, когда патрон почему-либо не взорвет, «обуривать» его, то есть делать рядом другой шпур; этот способ считается самым надежным. Нельзя, однако, не сознаться, что он довольно-таки страшен, и арестанты очень часто наотрез отказываются от обуривания. Тогда употребляют другое средство: по возможности выколупывают (если нельзя совсем вынуть) сфальшививший патрон и в ту же дырку вставляют новый. Впрочем, нередки в рудниках и трагические случаи гибели арестантов и нарядчиков. (Прим. автора.)
Намек на один гнусный противоестественный порок (Прим. автора)
Так выговаривают арестанты слово «форшахта», то есть передняя часть шахты, занятая лестницами. ( Прим. автора.)
Телесное наказание женщин отменено окончательно весною 1893 года. (Прим. автора.)
Спешу, впрочем, оговориться, что учебная практика заставила вспоследствии и меня пойти на некоторые уступки старине. Все буквы носили у моих учеников-арестантов имена хорошо знакомых предметов (б называлось бродней, в — волком, т — туесом), и обстоятельство много помогало успешности занятий. (Прим. автора.)
есор — мусор. (Прим. автора.)
Впрочем, нужно заметить, что только в Западной Сибири общеупотребительно слово «челдон» в приложении к крестьянину (так же как «варнак» — к каторжному); в Забайкалье же каждый крестьянин страшно обидится, если его так назовут, и сам обзывает челдонами арестантов. Но последние, понятно, не признают за собой этой клички. (Прим. автора.)
Химик на арестантском жаргоне. — тихоня, лицемер, подлипало. (Прим. автора.)
В настоящих очерках несоразмерно часто фигурируют уроженцы Сибири и Пермской губернии, и обстоятельство это может быть истолковано читателем не к выгоде этих последних. Сибиряки, или по крайней мере осужденные сибирским судом, действительно составляют огромный процент среди обитателей Нерчинской каторги, но объясняется это, я думаю, главным образом тем, что большая часть здоровых каторжан из российских губерний идет кругоморским трактом на Сахалин, в Сибирь же приходят почти исключительно слабосильные и малосрочные, причем последние очень скоро выпускаются в вольную команду. Нужно, впрочем, оставить кое-что и на долю безгласного сибирского суда. (Прим. автора.)
Поторжной зовется артельная работа, в которой нет личных уроков. (Прим. автора.)
Что касается способностей арестантов к усвоению грамоты, то читатели не должны думать на основании приведенных в настоящих очерках чисто случайных примеров, что в большинстве случаев она дается им туго. В моем личном опыте способные ученики относились к тупым, вероятно, как половина к половине. Принимая в рас чет возраст арестантов, несомненно отличающийся и меньшей восприимчивостью и более слабой памятью, чем школьный, детский возраст, я даже думаю, что арестанты скорее должны поражать нас своими способностями. Не говорю уже о прямо изумительных в подобной среде и в такие годы охоте к ученью и прилежании (Прим. автора.)
Качество — на арестантском языке преступление. (Прим. автора.)
Находя возможным выпустить того или другого арестанта в вольную команду, смотрителя тюрем обязаны сделать предварительное донесение об этом («представку» — на арестантском языке) в управление Нерчинской каторги. Оттуда приходит отказ или разрешение. (Прим. автора.)
Первого дела Малахова, за которое он попал в Сибирь на поселение, я не помню в подробностях. Знаю только, что он обвинялся в изнасиловании какой-то женщины-соседки; но Парамон клялся и божился (и рассказ его внушал мне доверие), что был оклевана тогда невинно, по злобе за то, что не уступал мужу этой женщины спорного клочка земли, который по осуждении его, Парамона, перешел в их руки. Зная его самолюбивый нрав и страсть восстановлять попранную правду, я допускаю, что легко могли найтись против него лжесвидетели. С большой любовью вспоминал Малахов о своей первой жене, которую, несмотря на готовность идти в Сибирь, он будто бы не взял с собой из жалости. Переписки с ней он не вел и не знал даже, жива она или нет, но нередко, помню, проснувшись в мрачном настроении, рассказывал, что видал жену ночью во сне, и с большой грустью начинал вспоминать о былой жизни в России. (Прим. автора.)
Читать дальше