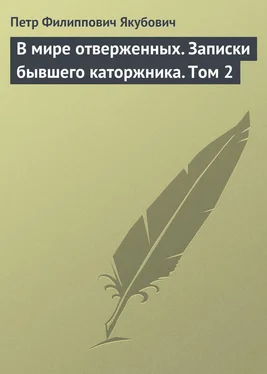Сохатому пытаются скрутить руки, он рычит и отмахивается кулаками, поднимается невообразимый гвалт, драка; с трудом удается восстановить прежнюю тишину. Дело моих учеников оказывается безнадежно проигранным, и все благодаря тому же Сохатому: он один умудрился наделать в своем диктанте пятьдесят две грубых ошибки (хотя в другое время и в другом настроении мог бы написать вдвое и даже втрое лучше).
— Банки, банки отсекать! — раздается дикий вопль, и в начинающейся вслед за тем сумятице трудно даже разобрать, кто кому хочет ставить банки. Я и мои товарищи успели уже очутиться у дверей камеры — нас моментально оттерли от стола, и никакие наши уговоры и упреки уже не имеют ровно никакого значения, никто нас не слушает и даже не может слышать. Нам остается с грустью смотреть на происходящее побоище.
— Сохатому отрубайте! — кричат одни голоса.
— Всем! Всей камере! — вопят неистово другие. Посредине камеры на полу уже лежит, барахтаясь и кусаясь, маленький Луньков, красный, потный и разъяренный, а на нем сидят верхом несколько человек. Но вдруг на эту кучу налетает ватага других борцов: это человек десять арестантов, обхватив со всех сторон гиганта Петина, пытаются свалить его с ног. Запнувшись о лежащего на полу Лунькова и сидящих на нем палачей, вся эта ватага моментально летит вниз; одни тут же растягиваются во весь рост, другие кувырком летят в сторону. Освободившийся во время этого падения Сохатый быстрее всех вскакивает на ноги и, стрелой пробежав мимо нас, кидается вон из камеры…
— Лови его! Держи его! — слышится бешеный рев двадцати голосов, и вдогонку бежит несколько человек.
А в камере свалка между тем продолжается. В числе отвешивающих Лунькову «ложки», к удивлению своему, я замечаю и его сокамерника и товарища по учению Ногайцева, у которого перед тем «болело брюхо»…
Штейнгарт сердится.
— Никогда больше не стану устраивать экзаменов. Безобразием только всегда кончается… А сегодня еще слово мне дали, что все прилично будет!
Но вот раздается звонок на обед, и староста показывается из кухни с баландой в руках.
Все сразу затихает.
После обеда тюрьма поголовно спит мертвецким сном часа полтора и даже два. Редко кто из арестантов прошмыгнет по коридору, направляясь в кухню или больницу. Зато к вечеру все опять оживает. Везде пьют чай, ведут оживленные беседы, поют хором песни. Надзиратель, лишь изредка появится и попросит «потише драть глотку».
Однако что за необыкновенный шум происходит в четвертом номере? Туда вся тюрьма бежит, как на интересное зрелище, а выходящая оттуда кобылка заливается веселым смехом. Из камеры доносятся звуки балалайки и какой-то странный мотив неизвестной мне песни. Откуда могли взяться в тюрьме скрипка или балалайка?
— Что там такое? — спрашиваю я первого попавшегося навстречу арестанта.
— Это Чащин — чтоб его язвило — волынку с Михайлом Иванычем трет!
Михаило Иваныч — мой приятель Ногайцев, и я с любопытством захожу в камеру. Чащин — арестант, по общему признанию, не из «дешевых», да и на мой взгляд это человек недюжинного ума и силы. Он рецидивист, осужденный навечно, родом сибиряк, из той же знаменитой всякого рода фартовцами местности Енисейской губернии, откуда были и Семенов, и Гончаров с Ракитиным, и многое множество других шелайских обитателей. Роста он немного выше среднего, худощавый, жилистый, весь точно из стали вылитый, слывет первым силачом в тюрьме; на лишенном всякой растительности испитом лице лежит всегда печать солидности, но в серых умных глазах светится веселая ирония; за словом Чащин никогда не лезет в карман, и остроты его отличаются большой ядовитостью. В общем же, характер его не совсем для меня ясен.
Балалаечные звуки, оказалось, исходили из простой роговой гребенки и из собственных искусных губ Чащина. Степенный и важный, без тени усмешки на губах, он грузно приплясывает перед «Михаилом Ивановичем» и не перестает наигрывать свой странный — то веселый, то вдруг раздирательно-плаксивый мотив.
— Балаган ты, мой ба-а-а-лаган!.. — вырываются по временам из его груди хриплые, несколько гнусливые звуки, и их сопровождает взрыв веселого хохота публики.
Толстяк Ногайцев в шапке и в шубе сидит на краешке нар, молчаливо пыхтя, широко раздувая ноздри и, видимо, с каждой минутой все больше и больше свирепея. Но он еще сдерживается и хочет казаться в высшей степени равнодушным, для чего сам иногда смеется натянутым, неестественным смехом.
Читать дальше