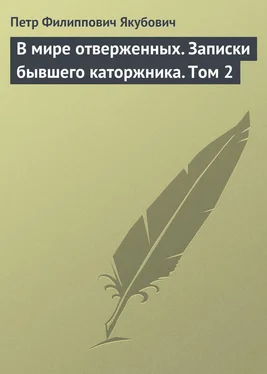— Ты, Егорка, знатче выводи гуквы-то, а то опять спор выйдет: ты говоришь — о, а Митрий Петрович говорит — а… Так чтобы без сумленья было!
— Нет, это что! — заявляет третий. — Своим банки не штука поставить. А вот ежели ваши ученики слабже наших окажутся, так мы и из камеры своей вон не выпустим: всем вам, собачьи дети, ложки отпустим: и ученикам и не ученикам! Не ходи на екзамент, не бахвалься!
Дружный хохот встречает это предложение.
— Ну да ведь и у вас брюхо-то есть. Еще неизвестно, кому ложки получать…
— Не согласен я, ребята, на банки, — вдруг отрывается от своей тетради мой неизменный ученик Луньков, — хоть бы Сохатого взять… Он, большой дурак, худо напишет, а я за него отвечай. Я за себя только, старики, отвечаю, ни за кого больше…
— Ах ты, трепач-мараказина! — огрызается на него Сохатый, — поглядим еще, кто больше ошибок наделает!
Штейнгарт сурово прекращает спор:
— Пишите, господа, я сорок раз повторять не стану:
Взгляну ль по привычке под крышу —
Пустое гнездо под окном.
Я вижу между тем, что дело Сохатого плохо; он озирается по сторонам, как травленый волк, и пялит глаза на тетрадки соседей; больше всего смущает его, по-видимому, окончание слова, «взгляну ль», которого он никак не может взять в толк. В это самое время ученики Штейнгарта, которым диктую я, успели уже дойти до стиха: «Как весел был труд их, как ловок».
— А ты чего же, Ногайцев, не пишешь? — спрашивает кто-то третьего из старых моих учеников.
Ногайцев лежит в углу камеры, прикрывшись сверху шубой, и не принимает в экзамене никакого участия.
— Брюхо болит, — отвечает он слабым, больным голосом.
— Скажи лучше, гайка заслабила, банок испужался?
— Не, в сам-деле болит…
Но вот диктовка наконец окончена. Учителя предлагают ученикам еще раз пересмотреть написанное.
— Чего тут смотреть, готово! — хвастливо восклицает Луньков и подает мне свою тетрадку, но многие другие, и в том числе Сохатый, долго еще сидят за столом, углубившись в свое писание и храня угрюмое молчание. Сохатый совсем притих и то и дело бросает на меня недоумевающие взгляды, словно ища помощи и защиты. Это не ускользает, конечно, от внимания публики, и она делает по его адресу ряд ядовитых замечаний. Наконец и Петин сердито свертывает тетрадку и, показав кому-то кулак, подает свою работу. Мы с Штейнгартом приступаем к просмотру диктантов, и тут в камере начинается невообразимое волнение, происходит страшная давка; ученики и зрители взлезают буквально на спины и на плечи один другому, каждому хочется хоть глазком посмотреть, что будут делать учителя. Даже и мы сами заражаемся общим волнением… Я не без чувства зависти замечаю огромные успехи, сделанные учениками Штейнгарта. Некоторые из них в самое короткое время научились отличать предлоги, стоящие перед именами существительными, от таких же предлогов, стоящих перед глаголами, и первые всегда пишут раздельно, а вторые слитно (для моих учеников различие это всегда составляло главный пункт преткновения). Один из пятерых учеников Штейнгарта, явившихся на экзамен, умудрился не сделать ни одной грубой ошибки даже в запятых (у нас заранее было самым точным образом условлено, какие именно ошибки считать грубыми и подчеркивать). Этот ученик был, впрочем, грамотным еще на воле, и я предлагал поэтому не допускать его на экзамен, но мои ученики из самолюбия не захотели его «отводить», хвастливо заявив, что в «дихтовке ни перед кем не сробеют». Теперь они должны были пожать плоды этого хвастовства. Из остальных учеников враждебной стороны у троих оказалось от десяти до двадцати грубых ошибок у каждого; пятый сделал всего лишь семь ошибок.
— Несправедливость! — закричал вдруг Сохатый, все время внимательно следивший за тем, как мы подчеркивали ошибки, и грозно засверкал своими телячьими глазами. — Явное попустительство!
— Где? Что такое?
— А вот, что тут у Милосердова написано? Нуль-то пропущен? Подчеркнуть надо! Потворствует Иван Николаевич Штейнгору!
— Какой нуль, где вы тут нуль нашли?
Сохатый молча тычет пальцем в слова «взгляну ль».
Мы с Штейнгартом весело смеемся, и вслед за нами все ученики, а затем и все зрители (неграмотные даже более грамотных) разражаются громовым хохотом. Сохатый сначала ошеломлен, потом переконфужен: он делает движение схватить со стола свою тетрадку, в которой у него, очевидно, красуется «взгля 0», но публика не дает ему этого сделать.
— Нет, шалишь, брат! Чужие ошибки считать лезешь — и за свои умей расплачиваться.
Читать дальше