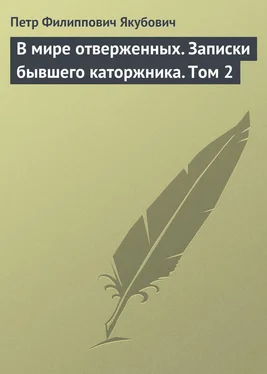— А что, Иван Николаевич, родитель господина Штейнгора, надо полагать, тоже из больших помещиков был?
Другие называли его сыном генерала, сенатора и пр.
Замечательно, что в числе учеников Штейнгарта был одно время еврей, с которым нам придется еще познакомиться, человек, пользовавшийся в тюрьме очень дурной славой; кобылка нередко бранила его «жидом». Штейнгарту, как и мне с Башуровым, случалось брать под свою защиту этого несчастного юношу, и тогда арестанты говорили ему:
— Стоит ли вам, Дмитрий Петрович, заступаться за такую сволочь? Одно ведь слово — жид.
— Я сам еврей, — возражал Штейнгарт, — но разве это какой-нибудь грех?
Тогда арестанты конфузливо чесали у себя в затылках и не знали, что сказать.
— Эх, Митрий Петрович, нашли с кем сравнить. Сволочь тюремную взять али вас!
Я думаю, что вообще было бы неблагодарным делом отыскивать даже и в подонках нашего простонародья какие-либо антисемитские тенденции в том смысле, какой они имеют у разных наших доморощенных Дрюмончиков и Рошфориков. {28}Антисемитизм и юдофобство этих последних — явления чисто культурные, создаваемые известного рода воспитанием и книжной пропагандой. Русская каторга абсолютно чужда всякой религиозной, а тем более расовой нетерпимости. Вот народ, про который действительно можно сказать, что для него не существует ни эллина, ни иудея, и который знает лишь две породы людей — угнетателей, и угнетенных. Правда, вы на каждом шагу можете услыхать из его уст такие ругательства, как «цыганская образина», «чухна проклятая», «польская» или «хохлацкая морда» и т. п., но все это лишь результат обычного пристрастия русского человека ко всякого рода крепким словам, и никакого серьезного смысла за ними не кроется. До чего еще мало, к счастью, развиты в нашем простонародье квасные патриотические чувства, показывает и тот, например, курьезный факт, что во многих глухих местностях России совсем неизвестно или известно очень смутно самое слово «русский», и нередко какой-нибудь двадцатилетний парень на вопрос о том, на каком языке он говорит, наивно отвечает вам: «на красном»… Очень многие из арестантов, я помню, говаривали:
— В верхней шахте сегодня нас пятеро русских работало.
Оказывалось, в числе этих «русских» был один поляк, один цыган, один мордвин, один хохол и только один великоросс, но зато не было ни меня, ни Башурова, ни Штейнгарта, и именно это-то и хотел выразить арестант своим замечанием. Очевидно, в понятиях этих людей слово «русский» обозначало главным образом принадлежность к простому, необразованному люду — и ничего больше.
Возвращаюсь, однако, к своим воспоминаниям о мягком периоде, наступившем после удаления подпоручика Ломова. Чаще всего рисуется мне нерабочий праздничный день. Все камеры растворены настежь, дежурный надзиратель пропадает неизвестно где. Никто не спит, так как время близится к обеденному часу. Заглянешь в одну камеру — там совсем пусто, и только два-три человека где-нибудь в углу, полулежа на нарах, пьют собственный чай и тихо разговаривают. Это какие-нибудь солидные, флегматичного темперамента приятели, мало интересующиеся шумной общественной жизнью и предпочитающие ей интимную беседу о стародавних временах и о разных случаях из своей жизни на воле. Заходишь в другую, в третью камеру — и там все пусто, словно все вымерло. Но зато из следующего номера доносится оживленный говор и шум. Здесь целая толпа народу — трудно протискаться. Что же это за зрелище, которое привлекло сюда почти всю тюрьму?
Две камеры, моя и Штейнгарта, устроили сегодня состязание между собой, «екзамент»: чьи ученики сделали больше успехов в науках? Состязаются, конечно, одни только «ученики», но живейшее участие принимают в деле и их неграмотные сожители. Одно и то же стихотворение («Ласточки» Майкова) я диктую ученикам Штейнгарта, он — моим. Большой камерный стол выдвинут на середину комнаты, и с него убрано все, что могло бы мешать экзамену: чашки, ложки, бачки, хлеб. Лица пишущих серьезны и степенны; одни, видимо, волнуются, другие имеют мрачный вид, но все хранят строгое молчание и только таинственно шепчут губами, повторяя про себя слова диктанта. Неграмотные зрители, напротив, шумно суетятся вокруг стола, кричат, толкаются, жестикулируют и даже переругиваются с противниками; желая всячески ободрить свою сторону, они только мешают ей криками и неуместными наставлениями.
— Наша камера, смотри не оплошай, не осрамись, — кричит один, — не то такие банки отрублю!..
Читать дальше