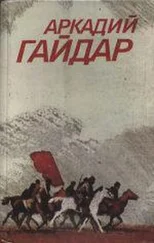Семёнов снова и недоверчиво переспрашивает:
— Ну? Совсем?
— Совсем. Только-де — это ненадолго, просто — тень пройдёт.
— Откуда — тень?
— Не знаю. От бога, верно…
Встав на ноги, хозяин строго и решительно сказал:
— Дура! Противу солнца тени быть не может, оно всякую тень прободёет. Раз! А бог — утверждается — светлый, — какая от него тень? Два! Кроме того — в небе везде пустота одна, — откуда в пустоте тень появится? Три. Дура она неповитая…
— Конечно, как баба…
— То-то и есть… Загоняй-ко ребятишек в хлевушок…
— Позову, кого-нибудь из тех.
— Позови. Да — гляди — не били бы зверей, а коли кто решится — бей его сам в мою голову…
— Знаю…
Хозяин идёт по двору, йоркширы катятся вслед за ним, как поросята за маткой…
На другой день рано утром хозяин широко распахнул дверь из сеней в мастерскую, встал на пороге и сказал с ядовитой сладостью:
— Господин Грохало, подь-ка перетаскай мучку со двора в сенцы…
В дверь белыми клубами врывается холод, окутывая варщика Никиту, — оглянувшись на хозяина, Никита попросил:
— Притвори дверь-то, Василий Семёныч, дует больно мне…
— Что-о? Дует? — взвизгнул Семёнов и, ткнув его в затылок маленьким тугим кулачком, исчез, оставив дверь открытой. Никите было около тридцати лет, но он казался подростком — маленький, пугливый, с жёлтым лицом в кустиках бесцветных волос, с большими, всегда широко открытыми глазами, в которых замерло выражение неизбывной боли и страха. Шесть лет — с пяти часов утра и до восьми вечера — торчит он у котла, непрерывно купая руки в кипятке, правый бок ему палило огнём, а за спиной у него — дверь на двор, и несколько сот раз в день его обдавало холодом. Пальцы у него были искривлены ревматизмом, лёгкие воспалены, а на ногах натянулись синие узлы вен.
Надев на голову пустой мешок, я пошёл на двор, и когда поравнялся с Никитой — он сказал мне тихонько, сквозь зубы:
— Это всё из-за тебя, черти бы те взяли…
Из больших его глаз лились мутные, как пот, слёзы.
Я вышел на двор, убито думая:
«Надо уходить отсюда…»
Хозяин в женской лисьей шубке стоял около мешков муки, их было сотни полторы, даже треть не убралась бы в тесные сени. Я сказал ему это, — он издевательски усмехнулся, отвечая:
— Не уберётся — назад перетаскать заставлю… Ничего, ты здоров…
Сдёрнув мешок с головы, я заявил Семёнову, что не позволю ему издеваться надо мной и пусть он даст мне расчёт.
— Таскай, таскай, знай! — снова усмехнувшись, сказал он. — Куда пойдёшь зимой-то? С голоду подохнешь…
— Расчёт!
Его серый глаз налился кровью, зелёный злобно забегал, он сжал кулак и, сунув им в воздух, спросил всхлипнувшим голосом:
— А в рожу — хочешь?
Меня взорвало. Отбив его протянутую руку, я схватил его за ухо и стал молча трепать, а он толкал меня левой рукой в грудь и негромко, удивлённо вскрикивал:
— Постой! Что ты? Хозяина-то? Пусти, чёрт…
Потом, то взвешивая на левой руке отшибленную правую, то потирая красное ухо и глядя мне в лицо остановившимися, нелепо вытаращенными глазами, он стал бормотать:
— Хозяина? Ты? Ты — кто такой, а? Да я… я — полицию вскричу! Я тебя…
И вдруг, обиженно сложив губы трубочкой, он протяжно, уныло свистнул и пошёл прочь, моргая правым глазом.
Моё бешенство сгорело, точно солома, — было смешно смотреть, как он тихонько катится в угол и под короткой шубёнкой вздрагивает, точно обиженный, его жирный зад.
Стало холодно, а в мастерскую идти не хотелось, и, чтоб согреться, я решил носить мешки в сени, но, вбежав туда с первым же мешком, увидал Шатунова: он сидел на корточках перед щелью в стене, похожий на филина. Его прямые волосы были перевязаны лентой мочала, концы её опустились на лоб и шевелятся вместе с бровями.
— Видел я, как ты его, — тихонько заговорил он, тяжело двигая лошадиными челюстями.
— Ну, — так что?
Монгольские глазки, расширившись, смотрели непонятным взглядом, смущая меня.
— Слушай! — сказал он, встав и подходя ко мне вплоть. — Я про это никому не скажу, и ты — не говори никому…
— Я и не собираюсь.
— То-то! Всё-таки хозяин! Верно?
— Ну?
— Надо кого-нибудь слушать, а то — передерёмся все!
Он говорил внушительно и очень тихо, почти шёпотом:
— Надобно, чтобы уважение было…
Не понимая его, я рассердился:
— Поди-ка ты к чёрту…
Шатунов схватил меня за руку, безобидно говоря таинственным шёпотом:
— Егорки — не бойся! Ты какой-нибудь заговор против страха ночного знаешь? Егорка ночному страху предан, он смерти боится. У него на душе грех велик лежит… Я иду раз ночью мимо конюшни, а он стоит на коленках — воет: «Пресвятая матушка владычица Варвара, спаси нечаянные смерти», — понимаешь?
Читать дальше