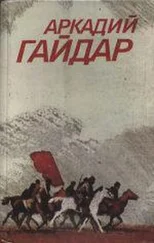— Сасем уходить? Дай ему в молду! А будет длаться — я заступлюсь!
Секунда молчания, и — все захохотали тем освежающим, здоровым смехом, который, точно летний ливень, смывает с души человека грязь, пыль и всякие наросты, обнажая доброе и ясное, сталкивает людей в тесную массу единочувствующих, в одно целостное, человечье тело.
Бросив работать, все качались, хватаясь за бока, выли, взвизгивали и, задыхаясь смехом, обливались слезами, а Яшка — тоже сконфуженно посмеиваясь — одёргивал рубаху:
— А — сто? Вот ессе!.. Я возьму гилю в тли фунта, а то — полено…
Первый кончил смеяться Шатунов, вытер лицо ладонью и, ни на кого не глядя, заговорил:
— Опять Яшка верно говорит, младенец! Зря пугаете человека. Он — добро сказывает, а вы ему — уходи…
— Упредить надо же! — сказал Пашка, отдыхая от смеха. — Али мы — собаки?
И все дружно заговорили о том, как бы предохранить меня от Егора:
— Ему — что убить человека, что изувечить, — всё едино — просто!
Больше всех старался Артюшка, быстро создавая различные нелепые планы обороны и наступления, а старый Кузин, воткнув глаз в угол, ворчал сердито:
— Который раз говорю я вам, мальчишки, — почистили бы образ-то божий…
Цыган, шаркая лопатой, убеждал как бы сам себя:
— Надо быть готовым ко всякому греху… У нас озорство — нипочём товар…
Мимо окон по двору кто-то прошёл, тяжело топая ногами, — всезнающий Яшка оживлённо сказал:
— Егол идёт волота затволять, — свиней глядеть будут…
Кто-то пробормотал:
— Не уморили его в больнице…
Стало тихо и скучно. Через минуту пекарь предложил мне:
— Хошь Семёновский парад поглядеть?
…Я стою в сенях и, сквозь щель, смотрю во двор: среди двора на ящике сидит, оголив ноги, мой хозяин, у него в подоле рубахи десятка два булок. Четыре огромных йоркширских борова, хрюкая, трутся около него, тычут мордами в колени ему, — он суёт булки в красные пасти, хлопает свиней по жирным розовым бокам и отечески ласково ворчит пониженным, незнакомым мне голосом:
— У-у, кушать хочется зверям, булочки звери хотят? На, на, на…
Его толстое лицо расплылось в мягкой, полусонной улыбке, серый глаз ожил, смотрит благожелательно, и весь он какой-то новый. За ним стоит широкоплечий мужик, рябой, с большими усами, обритой досиня бородою и серебряной серьгой в левом ухе. Сдвинув набекрень шапку, он круглыми, точно пуговицы, оловянными глазами смотрит, как свиньи толкают хозяина, и руки его, засунутые в карманы поддёвки, шевелятся там, тихонько встряхивая полы.
— Продавать пора, — сипло сказал он, — его тупое, как обух топора, лицо не дрогнуло.
— Успею, — недовольно и громко отозвался хозяин. — Когда ещё таких наживу.
Боров ткнул его рылом в бок — Семёнов покачнулся на ящике и сладостно захохотал, встряхивая рыхлое тело и сморщив лицо так, что его разные глаза утонули в толстых складках кожи.
— Отшельнички-шельмочки! — взвизгивал он сквозь смех. — В темноте… во тьме живут, а — вот они — чхо, чхо! Во-от они — а! Затворнички, угоднички мои-и…
Свиньи отвратительно похожи одна на другую, — на дворе мечется один и тот же зверь, четырежды повторенный с насмешливой, оскорбляющей точностью. Малоголовые, на коротких ногах, почти касаясь земли голыми животами, они наскакивают на человека, сердито взмахивая седыми ресницами маленьких ненужных глаз, — смотрю на них, и точно кошмар давит меня.
Подвизгивая, хрюкая и чавкая, йоркширы суют тупые, жадные морды в колени хозяина, трутся о его ноги, бока, — он, тоже взвизгивая, отпихивает их одною рукой, а в другой у него булка, и он дразнит ею боровов, то — поднося её близко к пастям, то — отнимая, и трясётся в ласковом смехе, почти совершенно похожий на них, но ещё более жуткий, противный и — любопытный.
Лениво приподняв голову, Егор долго смотрит в небо, по-зимнему тусклое и холодное, как его глаза; над плечом его тихо качается высветленная серьга.
— Сиделка в больнице, — неестественно громко заговорил он, — сказывала мне секретно, будто светупредставления не буде…
Пытаясь схватить борова за ухо, Семёнов переспросил:
— Не будет?
— Нет.
— Врёт, поди, дура…
— Может, и врёт.
Хозяин всё ласкает набалованных, чистых и гладких свиней, но движения рук его становятся ленивее — он, видимо, устал.
— Грудастая такая баба, пучеглазая, — вздохнув, вспоминает Егор.
— Сиделка?
— Ну, да! Свету, говорит, представления не надо ждать, а солнце — затмится в августе месяце совсем…
Читать дальше