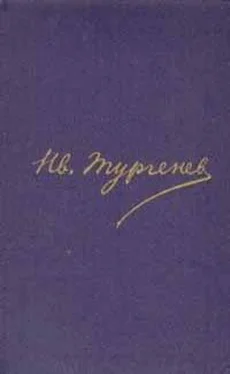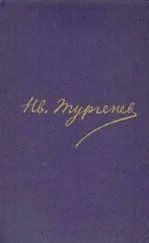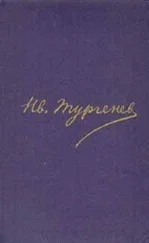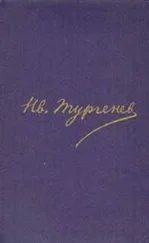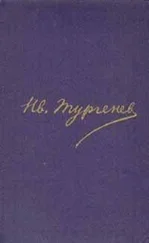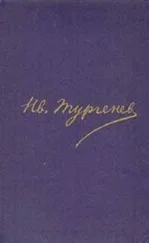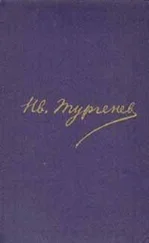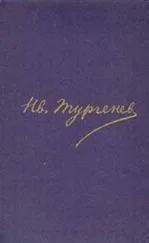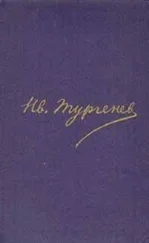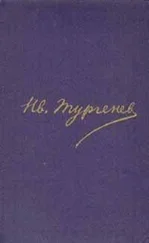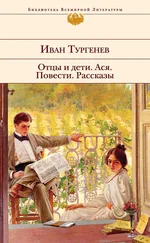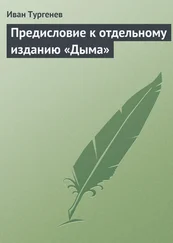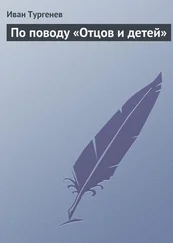Вместо текста: «Литвинов рассердился бы — Литвинов не пошевелился» (с. 398) — было:
«Литвинов вспыхнул; он еще больше рассердился бы, если бы не то мертвое бремя, которое лежало у него на сердце.
]— Какого чёрта вы мне „ты“ говорите, — обратился он к Биндасову, — вы бы лучше деньги мне отдали, которые чуть не украли у меня. А я вовсе не сюда приехал и к вашему тупому олуху вовсе не намерен идти.
У Суханчиковой глаза чуть не выскочили. Бамбаев присел, Ворошилов дважды щелкнул каблуками. Сам Биндасов попятился.
— Деньги! — пробормотал он, — деньги, вона, чего [еще] выдумал».
После слов: «… приблизилась к двери спальни» (с. 373) — было:
«Нет, я не упрекаю вас… я об вас жалею. Я убеждена, что вы не стали бы мне говорить… об этом новом чувстве, если бы оно не было… очень сильно. Но сами вы не ждете себе много радости — хотя, мне кажется, вы напрасно боитесь погибели. Если бы, по крайней мере, то, что заменило наши отношения, было… в том же роде. А то я и счастья вам не могу желать».
Вместо текста: «А стоило бы только — и прежде нас!» (с. 273) — было:
«А дело разрешается очень просто: стоило бы только действительно смириться (а то мы всё лишь толкуем о смирении) и прямо сознаться, что мы, славяне, народ второстепенный, менее одаренные, хуже поставленные меньшие братья, которым следует и учиться и заимствовать у старших. Для гордости язвительно, да ведь давно уже сказано, что правда колется. А признайте-ка эту правду, посмотрите, как говорится, чёрту в глаза — и всё тотчас поплывет как по маслу. Всем противоречиям, мудрствованиям, ломаниям и вычурам конец. Всё ясно, как дважды два четыре, всяк знает, что ему делать, благо выдумывать ему нечего — остается только брать готовое.
— À la Петр Великий, — заметил Литвинов.
— Именно, именно! Наши дела гораздо бы лучше шли, если б мы почаще с ним справлялись! Я, между прочим, доложу вам, иронии не боюсь, — прибавил Потугин. — Я обстреленная птица».
Остается неясным, выбросил ли Тургенев этот текст по совету друзей или под нажимом M. H. Каткова.
См.: Муратов А. Б. О заглавии романа И. С. Тургенева «Дым». — Вестник Ленинградского университета, 1962, № 2, серия истории, языка и литературы. Вып. 1, с. 159–161.
Сокращен и смягчен был текст на с. 317: «Отец его был — и вышел в гвардию»; там же были вычеркнуты слова: «большей частью на чужих лошадях»; вместо текста: «… генерал Ратмиров чп пути открытыми» было напечатано: «… генерал Ратмиров знал себе цену». Другие искажения текста романа в публикации «Русского вестника» см.: Т, ПСС и П, Сочинения, т. 9, с. 444–447.
Первое отдельное издание «Дыма» вышло в свет в начале ноября ст. ст. 1867 г. (см. письмо П. В. Анненкову от 14 (26) ноября 1867 г.), хотя на титульном листе указан 1868 г.
Эти проблемы уже в течение нескольких лет были предметом полемики между «Современником» и «Колоколом» (см., например, статью Н. Г. Чернышевского «О причинах падения Рима (Подражание Монтескье)»). — Совр, 1861, № 5, и ответ А. И. Герцена «Repetitio est mater studiorum». — Колокол, 1861, 15 сентября, л. 107).
См.: Вялый Г. А. «Дым» в ряду романов Тургенева. — Вестник ЛГУ, 1947, № 9, с. 94–98; Петров С. М. И. С. Тургенев. Творческий путь. М.: ГИХЛ, 1961, с. 437–466; Муратов А. Б. И. С. Тургенев после «Отцов и детей». Л., 1972, с. 124–144; ср. Винникова И. А. Вновь о «Гейдельбергских арабесках» в романе И. С. Тургенева «Дым». — В сб.: Проблемы формирования реализма в русской и зарубежной литературе XIX–XX веков. Саратов, 1975, с. 19–36.
См.: Пумпянский Л. В. «Дым». Историко-литературный очерк ( Т, Сочинения, т. 9, с. IX–X); Бялый Г. А. «Дым» в ряду романов Тургенева, с. 98–99; Петров С. М. И. С. Тургенев. Творческий путь, с. 428–429.
Винникова И. А. И. С. Тургенев в шестидесятые годы. Саратов, 1965, с. 78–88.
Ср., например, Белинский, т. 10, с. 9–13, 29–30 и 281–282.
См.: Бродский Н. Л. Белинский и Тургенев. — В сб.: Белинский — историк и теоретик литературы. М.; Л., 1949, с. 323–342.
В «Воспоминаниях о Белинском», излагая точку зрения Белинского, Тургенев писал: «Принимать результаты западной жизни, применять их к нашей, соображаясь с особенностями породы, истории, климата, — впрочем, относиться и к ним свободно, критически, — вот каким образом могли мы, по его понятию, достигнуть наконец самобытности, которою он дорожил гораздо более, чем обыкновенно предполагают». Ср. с этим рассуждение Потугина: «Кто же вас заставляет — даст свой сок» (с. 273).
Читать дальше