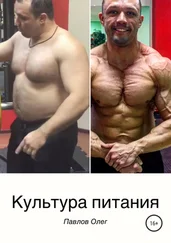Олег Павлов - В безбожных переулках
Здесь есть возможность читать онлайн «Олег Павлов - В безбожных переулках» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Русская классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:В безбожных переулках
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
В безбожных переулках: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «В безбожных переулках»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
В безбожных переулках — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «В безбожных переулках», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Кирпич заранее накрошил работник и свалил кучей у домика; он же, наверное, завез и цемент. Делать укрепление дедушка почему-то ему не доверил. На земле этого мужика, что жил да работал на острове, и стоял наш домик -- на лугу, где возвышались огромные копны сена, похожие в моем воображении на слонов из зоопарка. Они были даже выше, чем крыша нашего домика. Хозяином их также был угрюмый, молчаливый дедов работник. Не знаю, почему он отдавал деду часть своей земли, получал плату за свою работу или нет, и не знаю, что же их свело. Завезти цемент, кирпич, помочь во всем могли бы и два сына, но дедушка никогда ни о чем их не просил, предпочитая иметь дело со своим странным работником, что являлся послушно по первому его зову. Сам же он звал мужика за глаза "конюхом" и высказывался, что "много водки жрет этот дядя". О пьяницах всегда говорил с грубостью, хоть сам сделался трезвенником, когда вышел в отставку.
Меня уже водили на конюшню - по дороге за нашим домиком, я видел коней. Было непонятно, почему эти дышащие силой исполины подчиняются невзрачным людям, похожим в сравнении с ними разве что на ящериц. Их глаза, больше человеческих, глядели никуда. Огромные лошади порой паслись прямо в дубраве за калиткой: стреноженные, они тяжко прыгали меж деревьев, выискивая себе корм, или стояли и не двигались, созерцая друг дружку. Взгляд мой завораживали путы - толстые канаты, навязанные узлами, что должны были, наверное, доставлять им только страдания. Этого я и не понимал - что лошадей заставляют страдать, а они терпеливо подчиняются людям. Я никогда не видел, что веревками можно так связывать, лишая возможности свободно двигаться. Я подглядывал за лошадьми, бывало, так долго, что начинало чудиться, будто и они подглядывают за мной. Я знал, что думаю о них, но тогда уже всерьез хотел понять, что же они думают обо мне, раз глядят и глядят своими глазами.
Хижина конюха проглядывала в отдалении, за вишневым садом, который почти скрывал ее от глаз. Это была деревянная постройка на сваях, крытая соломой. В другое лето, когда в Киев отправляли отдыхать еще и сестру, что была старше на девять лет, мы с ней ходили в сад за вишней и блуждали по нему, как в лесу. Сестра никогда ничего не боялась, и я с нею ничего не боялся, увязываясь за нею нарочно, чтобы попасть туда, куда запрещалось или было одному страшно. Она же терпела меня поневоле, чтобы молчал, зная, что если не возьмет с собой, то я доложу все деду или бабушке. Но если я добивался своего, то был уж с ней заодно и никто не мог вытянуть из меня после ни словечка. Она брала меня за руку, и мы потихоньку уходили в чужой этот сад за вишнями, до которых я сам никак бы не смог дотянуться. Однажды в саду нас застала врасплох женщина, что вышла вдруг на крыльцо соломенной хижины. Она показалась мне очень похожей на мою маму, только говорила грубым голосом и на языке, которого я не понимал. Позвала в дом, но мы не поднялись даже на веранду - вынесла вишню, персики в тазу, чтобы мы брали, сколько хотим. Бабушка после ругалась, что мы угощались у этой женщины.
Дед так вовсе перво-наперво запретил мне ходить на ту сторону, когда приехали в домик, - только за водой на колонку. Мне думалось, что конюх бьет свою жену и что ей, должно быть, плохо живется в этом доме на сваях. Когда я пробирался за водой - казалось, в самую глушь сада, - все оглядывался, виден ли наш домик, нахожусь ли еще под его защитой, а у колонки, замирая, пока ведерко с громким бульканьем набиралось водой, глядел и глядел на хижину под грязной соломенной крышей, подернутую черными изломанными ветвями вишен, будто паутиной.
В тот день мы легли рано: дед на раскладушке прямо под небом, а я в домике. Утром пошли на Днепр. Даже ловить рыбу дедушка, наверное, мог лишь там, где знали, кто он такой, и уважали: на берегу, свободном от людей. Территория, на которую нас впустили, была вся огорожена сеткой, а встречал деда какой-то улыбающийся мужчина. Обо мне дедушка всегда говорил: "А это мой внук из Москвы..." И те, с кем он говорил, переспрашивали уважительно у меня: "Из Москвы?" На что я отвечал, стараясь важно бурчать, как дедушка: "Из Москвы..."
Берег был пуст. Вода здесь казалась грязной, холодной. Днепр виделся широко, простираясь до другого берега даже шире самого неба, что всегда завораживало меня. Дед велел слушать, когда зазвонят колокольчики на расставленных по берегу спиннингах, а колокольчик до обеда звонил всего один раз. Дед научил меня, что нужно оглушить пойманного леща и зарыть поглубже, где холодно, в прибрежный песок. Когда я ударил трепещущего леща булыжником по голове, он затих, а из головы выступила кровь. Так я, наверное, сгубил в своей жизни первый раз что-то живое, наученный дедом и гордый тем, что сделал. Это событие и стало в моих мыслях "рыбалкой". Потом я посидел еще у рыбьей могилки в расстройстве, что больше нельзя увидеть этой пойманной рыбы, и уснул подле нее на песке, пригретый солнышком, одурманенный скукой... Разбудил дед. Он поймал под конец, пока я спал, еще одного леща. Это время суток на пляже, когда холодало и все вокруг делалось обыденным, а купальщики исчезали, оставляя песок каким-то помятым, истоптанным, было уже знакомо, будто бы отродясь. Возвращение домой, когда нужно было проделать тот же самый путь, только утяжеленный усталостью и скукой, казалось наказанием без вины, было всегда неожиданным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «В безбожных переулках»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «В безбожных переулках» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «В безбожных переулках» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.