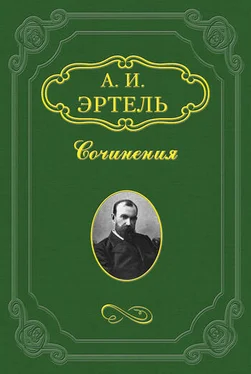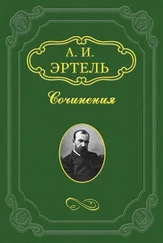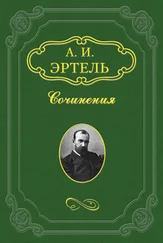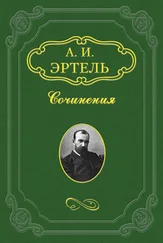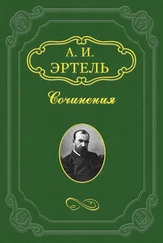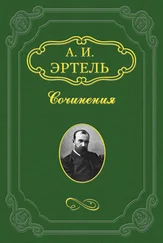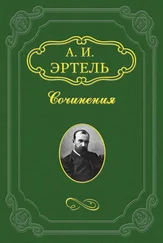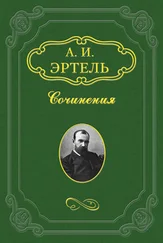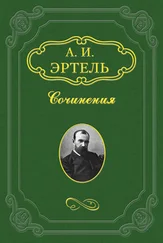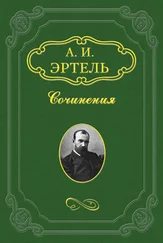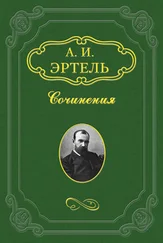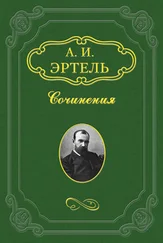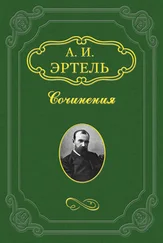– Но уроки… – слабо вставляла Инна Юрьевна, очевидно возмущенная до глубины души пламенными нападками Лебедкина на аристократию.
– Для нее не существует уроков! – кричал Лебедкин. – Никогда и ничего не выносила она из них-с!.. Это будьте покойны, сударыня. (Да, он сказал «сударыня»…) При Карле Десятом {31} 31 Карл Десятый – французский король (1824–1830). В эпоху французской революции 1789–1793 годов возглавлял эмиграцию в ее борьбе с революцией. Вступив на престол в 1824 году, был под влиянием духовенства и реакционных элементов дворянства. Его ордонансы, отменившие избирательный закон и уничтожившие свободу печати, явились ближайшим поводом к революции 1830 года.
она устроила «белый» террор… При Карле Втором {32} 32 Карл Второй – английский король (1660–1685), сын Карла I. С воцарением в 1660 году на английском престоле Карла II в Англии была восстановлена королевская династия Стюартов. Карл II проводил политику феодальной реакции.
английском и дураке Якове {33} 33 «…и дураке Якове…» – Яков II, английский король (1685–1688), преемник Карла II.
натворила мучеников… В Италии ограбила народ и продала его… В Польше погубила свободу… У нас, с каждым новым бунтом голытьбы, распространяла крепостное право… – тут он перешел преимущественно к аристократии русской. – А теперь о чем все они мечтают! воскликнул он, задорно надвигаясь на Инну Юрьевну, – да об «сословии» мечтают-с… О старинном режиме думают… Да режим-то этот чают с вариациями-с!.. Ведь у них цел ультиматум-то тысяча семьсот тридцатого года… {34} 34 «…ультиматум-то тысяча семьсот тридцатого года…» – Имеются в виду «кондиции» «верховников» царице Анне Иоанновне.
Ведь если республиканцы французские к принципам восемьдесят девятого года вожделеют, так наши-то князья да графы год семьсот тридцатый лелеют в сердцах своих, и даже который из них азбуке плохо научен, и тот смакует «совет верховный»… Знаем мы их достаточно-с!.. Все эти господа очень даже понятны нам-с… Идеальчики-то их известны до подлинности: похерить интеллигенцию да закрепостить ее латинянам, водворить благонравие да наводнить государство назидательными книжками «О добром помещике и признательных мужичках»… Смекаем-с, сударыня!.. (Инну Юрьевну коробило). Им ведь так бы хотелось: одна сторона – нехай, дескать, лапоть первобытный, а другая – карета с гербом на дверцах, – низ и вершина, значит единение и совокупление, а все, что в середке-то, – пусть к черту на кулички отправляется… Вот то-то заблагоденствовали бы… То-то праздник бы велий восчувствовали в сердцах своих… О, благодетели… – И опять распространился в проклятиях.
Лебедкин был привлекателен. Коренастый и смелый, с смуглым выразительным лицом и с мрачным огнем в глазах – он напоминал одну из тех восторженных фигур, которыми переполнена известная картина Густава Дорэ «La Marseillaise» [5]. Говорил он хорошо, хотя, может быть, и чересчур страстно, и во всяком случае совершенно не в том роде, в котором отличался Карамышев. Очевидно, когда говорил – Лебедкин не думал о форме речи, она выливалась у него бурной и отчасти беспорядочной импровизацией. Инне Юрьевне ни страстность эта, ни это несколько вульгарное красноречие явно не нравились. Несмотря на бездну такта, имевшегося в ее распоряжении, она частенько-таки морщилась и с плохо скрываемою досадою от времени до времени перебивала Лебедкина и даже иногда пожимала плечами.
Зато Марк Николаевич был в полном восхищении… С каким-то судорожным наслаждением сосал он сигару свою и все смотрел в глаза Лебедкину, все поддакивал ему, очевидно ровно ничего не понимая из его речей. Люба же Люба была вся внимание. То грустное выражение, которое так еще недавно я заметил на ее лице, теперь уступило место иному, если и не счастливому, то во всяком случае радостному. Казалось, то, что проповедовал Лебедкин, как нельзя более совпадало с собственными ее думами, и теперь она радуется, слушая, как думы эти – смутные и почти инстинктивные, – так хорошо, так неотразимо убедительно формулируются. Она не говорила ничего; она сидела молча, но все существо ее, как бы до последнего нерва, было проникнуто и сочувствием и уважением к Лебедкину… А он… О, он по-прежнему был сдержан с ней и вежлив, и даже почти игнорировал ее, – хотя все, что говорил с таким жаром, говорил несомненно только для нее… Это прорывалось наружу до наивности ясно. И особенно желчные нападки на Ирину (в «Дыме») и струнка личного раздражения, заметно звучавшая в его страстных филиппиках {35} 35 Филиппики – в переносном значении гневная обличительная речь; название политических речей древнегреческого оратора Демосфена, направленных против Филиппа II Македонского.
против «аристократии», и какая-то странная мятежность духа при взгляде на Любу, – все изобличало Лебедкина. А Люба ничего не замечала. Все уколы и уязвления Лебедкина не касались ее. С какою-то веселой сосредоточенностью она за одним следила – за развитием лебедкинской мысли; одному жадно внимала – тем фактам, которые Лебедкин так искусно, так выразительно группировал; одним упивалась – теми выводами, которые вытекали из этих фактов… И вся озаренная какой-то детской улыбкою удовольствия, кивала своей грациозной головкой, когда эти выводы казались ей особенно удачными, особенно неотразимыми.
Читать дальше