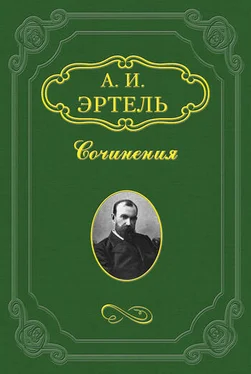Люба сказалась больною и не вышла к завтраку. Когда об этом объявили, Сергий Львович слабо и неопределенно улыбнулся. После завтрака он уехал. Инна Юрьевна подозвала меня к окну посмотреть на этот отъезд. Четверик великолепнейших серых рысаков, толстейшее чудовище на козлах, шикарнейшая венская коляска – все как нельзя более гармонировало с благородным обличием господина Карамышева. Небрежно натягивая светлую перчатку, сел он, почтительно поддержанный человеком в ливрее, небрежно откинулся к задку, небрежно и сквозь зубы произнес: «Пшол» и скрылся в облаках сияющей пыли. Инна Юрьевна сделала ему ручкой и, вся восхищенная, отошла от окна.
Не знаю почему, но дурного расположения духа в Карамышеве она не заметила. Впрочем, и вообще она не отличалась наблюдательностью.
После отъезда Карамышева Люба вышла. Лицо у ней было желтое и несколько сурово сосредоточенное. Глаза поражали тусклостью и были как-то неприязненно сухи. Одета она была, казалось, еще проще, чем вчера. Синее платье из какой-то плотной материи и без всякой отделки, – совсем не по сезону, как, вероятно, и заметит моя взыскательная читательница, – узенький и жесткий стоячий воротничок, прелестно, оттеняющий смуглую желтизну шейки, свободно распущенные косы, – вот и все. Но эта простота ужасно шла к ней. Она в ней казалась особенно крепкой, особенно смелой и непреклонной. На вопрос матери, чем заболела она, Люба ответила что-то неопределенное и, взяв какую-то работу, уселась около раскрытого окна. А Инна Юрьевна завела было обычную материю об искусстве, об Англии, но как-то необыкновенно быстро переменила фронт и незаметно перешла к сплетне. Она спросила, знаю ли я, отчего madame Карицкая разошлась с своим мужем, и на отрицательный ответ подробно рассказала мне, отчего она разошлась. Затем выступили на сцену балы помещика Китайцева, на которых, по мнению Инны Юрьевны, бывает всякий сброд и для тостов, вместо шампанского, подают донское. Потом коснулась дела Макаровых, которые так много и так безрассудно проживают, а между тем водят детей в ситцевых платьишках и стоптанных башмаках… Все это было утомительно и скучно. Я попытался завести разговор с Любой. Но она отвечала мне сухо и односложно. Я уж начал жалеть, что согласился остаться на сегодня… На мое счастье, пришел Марк Николаевич и пригласил меня пройтись по хозяйству.
Лишь только ступили мы на гумно, лишь только потянулись пред нами амбары да скотные дворы, сараи да конюшни, как повеяло на нас мерзостью запустения. Усадьба, теперь спрятанная в зелени сада, казалась иным царством. Там все блестело свежестью красок, новизною и порядком, здесь разрушалось, обваливалось и зарастало чертополохом. Гнилые плетни вместо стен, дыры вместо кровель, щели и развалины, – все это отовсюду лезло в глаза, производя самое угнетающее впечатление. Я остановился в недоумении…
– Как, как находите?.. – по своему обыкновению заспешил Марк Николаевич, подхватывая меня под руку. – Сюда вот, тово… идите сюда!.. Вы этого нигде не встретите… а? нигде не встретите… Я вот сейчас вам, тово… – И он привел меня к каменному сараю. Одна половина дверей в этом сарае сорвалась с петель и лежала на земле, другая же плохо, но все еще держалась. Мы вошли. Сумраком и затхлостью повеяло на нас. Пыльные солнечные лучи косыми столбами пробивались в круглые крошечные окна. Я огляделся. В сарае громоздился целый хаос. Плуги Овербека и плужки Рансома, американские сохи и английские экстирпаторы, немецкие бороны и шведские сеноворошилки, сеялки и веялки, зернодробилки и зерносушилки, катки и валики, – все это, покрытое толстым слоем пыли, воздвигалось своими ножками, ручками, лемехами и зубьями. Беспорядок был ужаснейший… Плужка лезла на веялку, сеноворошилка цеплялась за экстирпатор, борона стремилась к зерносушилке… Солнечные лучи прихотливыми пятнами мелькали там и сям… Мы стояли и смотрели молча. Наконец Марк Николаевич обратил ко мне лицо свое и, как бы рекомендуя мне весь этот хлам, развел руками.
– Вот!.. – сказал он.
Затем привлек он меня к густому бурьяну. Среди бурьяна этого возвышалась каменная постройка, брошенная менее чем на половине; вороха извести, уже испорченной, конечно, лежали там и сям, – по ним пробивалась свежая травка, – размокший и почти рассыпавшийся кирпич громоздился грудами… Мы подошли к этим руинам, и Марк Николаевич снова развел руками и снова, как бы рекомендуя мне руины, произнес свое: «Вот!..»
Читать дальше