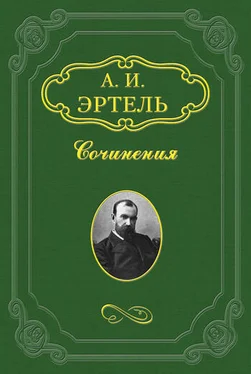Александр Иванович Эртель
Мои домочадцы
Прежде всего опишу Семена.
Вообразите себе малорослого человека с длинными руками, бесцельно и беспомощно болтающимися по бокам, с небольшим ястребиным носиком, слегка искривленным на конце, и прямыми, белыми как лен волосами, с кроткими, вечно задумчивыми глазами и безмятежным выражением лица, крошечного и сморщенного в кулачок, – это и будет Семен.
Впрочем, настоящее его имя было не Семен, но об этом – после.
Был он у меня не простым работником, но, по мере надобности, и старостою, и ключником. Первую из этих обязанностей, – обязанность старосты, – нес он плохо. Вы могли бы целый день следить за работами, где находится Семен в качестве начальника, и целый день не услыхали бы его голоса, и это даже тогда, если рабочие были неисправны. Обыкновенно Семен, заметив какую-либо неисправность в работе, тотчас же брал в руки метлу или лопату, или другое соответствующее орудие, и, вместо того чтоб приказывать, кропотливо возился, заглаживая эту неисправность своими руками. Но бывали и такие работы, в которых невозможно было вступаться самому (например пахота) и самому исправлять упущение, происшедшее от лени или недосмотра рабочих. Тогда Семен, после долгих колебаний, подходил к самому носу неисправного работника и втихомолку просил его «как ни можно стараться».
Вообще не по душе ему была должность старосты, и если он с грехом пополам сносил ее, то лишь благодаря тому, что я и не требовал от него большего усердия, а только рассчитывал на одну его, действительно замечательную, честность.
Но обязанность ключника нес он с любовью. Весною по целым дням, бывало, возится в прохладном амбаре: там подметет, там законопатит пол, там подмажет его глиною. Придет лето – еще больше хлопот. Нужно принимать хлеб с тока, нужно отпускать его на грохота, а с грохотов снова принимать и пропускать на сортировку… Тогда ключнику много работы. И отпуск и приемка требуют счета и меры. И вот Семен с неукоснительным вниманием чертит стены закромов кабалистическими знаками, означающими воза, четверти, пуды, и является ко мне вечером с целой охапкою бирок. Кроме счета, есть и еще занятие: после каждого воза чисто-начисто подметать коридор, отгребать зерно в закроме и гонять из амбара голубей, то и дело влетающих туда поживиться обильным кормом. Осенью, а иногда и зимою, тоже большие и приятные хлопоты Семену: отпуск хлеба купцам, наблюдение за весами, зашивание кулей и, опять-таки, начертание кабалистических знаков.
В амбаре он чувствовал себя дома: говорил громко, двигался смело, делал все без колебаний и раздумываний. Но все это заменялось полнейшею нерешительностью, когда Семену приходилось вылезать из амбара на свет божий и идти на ток наблюдать за молотьбою. Надо было видеть его в ту минуту, когда к нему подходили и спрашивали: не пора ли стрясать, не довольно ли уж чисто вымолочено? Он терялся, мямлил, с нерешительностью мял в руках солому и рассматривал колосики, и в конце концов выражал свою волю таким неопределенным и сконфуженным лепетом, что молотильщики безнадежно махали на него рукою и уж руководились в своих действиях собственною своею совестью. Если они решали «стрясать» – Семен не противоречил, но с тоскою ходил по току и тогда лишь забывался, когда попадались ему под руки грабли. Тогда он старательно перетрясал ту солому, в которой ему думалось найти зерно, каждый плохо перемятый колос тщательно и со вздохом обивал о ручку грабель и вообще по мере возможности старался наверстать кажущееся упущение.
Кроме молотьбы (молотьбу я подразумеваю – цепами и телегами, но не машиной), особенно ненавидел Семен полку. Иметь дело с несколькими десятками баб и девок, обыкновенно склонных к насмешкам над начальником и вообще к озорству и непослушанию, было для него сущим наказанием, и случалось даже так, что когда неизбежно приходилось идти на полку, у Семена внезапно «схватывало» живот, и он с страшными стонами залезал на печку, с которой сходил уже тогда, когда опасность проходила и надобности в нем совершенно не оказывалось. Эта конфузливость выражалась в нем только в роли начальника, старосты. В остальное время он если и не был чересчур разбитным человеком, то и не смотрел растерянным.
Впрочем, надо добавить, что вообще компании он не любил, а если уж приходилось быть в народе, то больше отмалчивался и слушал, на вопросы отвечал односложно и, при первом благоприятном случае, удалялся куда-нибудь в глухой уголок хутора, где либо посиживал себе одиноко, либо копался над какой-нибудь работой.
Читать дальше