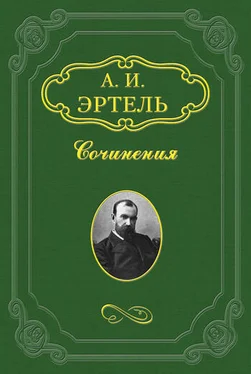Жил дедушка Наум зажиточно (недаром носил окладистую бороду). Имел он большую семью, которую держал в ежовых рукавицах. Сыны его были тихие и робкие ребята, для которых мановение серых отцовских бровей равнялось ретивой ругани такого даже важного начальства, как, например, письмоводитель станового. Невестки деда Наума так были вымуштрованы, что при свекре не смели рта разинуть. И тех и других он поколачивал. Особенно доставалось бабам. «Напрасно ты их бьешь», – как-то сказал я ему, когда он, по возвращении из дому, в длинном монологе заявил мне, что «дома у него было не все в порядке» и что баб он «маленечко потрепал». «А как же ее не бить? – глубокомысленно возразил он, поглаживая бороду и важно отстанавливая ногу в громадном сапоге, – как же ее не бить, бабу-то? Бабы нельзя не бить. Без битья, это прямо надо сказать, с ней никак невозможно. Баба – она ехидная. С ней ежели по кротости, к примеру, – она съест. А вот поучил ее малость…» – и пошел, и пошел. Впрочем, младшую свою невестку красивую, но дурковатую бабу Степаниду – он не бил и даже частенько жаловал ее то новым платком, то котами. «Степка у меня – золото!» – бывало, хвалился он, и действительно баба здорова была на работу; но зато мужу ее, вялому и длинному малому, с воспаленными глазками и светлыми волосами, сбитыми в колтун, более других братьев доставалось затрещин и встрепок.
Я редко встречал такого врага всякого рода новшеств, каким был Наум. Против железных дорог и «цыгарок», железных плужек и картузов, молотилок и «вытяжных» сапогов – он восставал с одинаковым озлоблением. В старину все, по его мнению, было лучше: табак не курили, а нюхали, если же кто и курил, то в трубке; молотить – молотили цепами, отчего и солома была лучше («едовитее») и чище вымолачивалось зерно; пахали господские земли хотя и сохами, зато вовремя, да и пахали-то так, что теперь и плугой не вспашешь, ибо лошади мужицкие были тогда хорошие и сытые.
Я любил в разговоре с ним заводить речь о старине. «Теперь возьмем, к примеру, сапог, – бывало, толковал дед Наум, – нонешний ли сапог или старинский. Нонешний что? – подборы высокие, кожа тонкая, выглядит щеголевато, а, глядишь, через год и подметки разбились. Так, шваль-сапог! Нет, прежний, к примеру, сапог был, – это, прямо надо сказать, сапог! Кожу на него поставишь толстую, подошву подгонишь – дерево деревом… Так ему износу нету! У меня раз – что я тебе скажу – десять годов носились сапоги! Вот какие были сапоги. А ноне что – ноне, прямо надо сказать, присловье одно, что сапоги, а на самом-то деле, ежели, к примеру, разобрать хорошенько да порассудить, – они и не сапоги…»
И, подобно новым сапогам, на все новое глядел он свысока и презрительно. Если же заходила речь о такой новизне, которая уже неоспоримо была хороша, тогда Наум, не представляя против нее никаких доводов, напирал только на то, что «в старину» и без этого жилось хорошо, а теперь, с «эстими новшествами-то бесперечь зубы на полку кладут».
Несмотря на то, что Наум никогда и ничего ни важного (по смыслу), ни особенно умного не говаривал, он все-таки пользовался авторитетом на сельских сходках. Бывало, галдит-галдит эта сходка, ругается-ругается охрипшими голосами, но стоило только подойти деду Науму и заговорить – все тотчас же смолкало, и он беспрепятственно изрекал свое длинное слово, по обыкновению, несмотря на всю свою многозначительную отрывочность, не имевшее никакого практического значения. Но сходка внимательно и серьезно выслушивала это бестолковое слово и, уже выслушав, снова принималась за свое галденье, из которого в конце концов и вылупливалось – ими же весть какими путями – изумительно ясное и простое решение, разумеется ничего общего с словесами дедушки Наума не имеющее.
Надо сказать, что славу деревенского мудреца и возможность беспрепятственно изрекать свои рассуждения даже на сходке дедушка Наум приобрел, в некотором смысле, кровью.
Дело было в шестьдесят первом году. Получился манифест, прочитался, более или менее бестолково, полуграмотными сельскими попами с высоты амвона – и, разумеется, либо окончательно не уразумелся, или понялся в так называемом «превратном смысле». Обитатели деревни Волохиной (однодеревенцы дедушки Наума) манифест совсем не поняли и в простоте душевной даже рукой махнули, решив: «Что-де прикажут, то и будем делать», – народ был забитый. Но тут-то и стяжал лавры мудреца дед Наум. По его почину мужики раздобылись где-то манифестом, собрались вечерком в Наумовой избе и заставили читать манифест отставного солдатика Карягу, имевшего претензию на знание азбуки вплоть до складов. Каряга читал, не обращая ни малейшего внимания на точки, запятые и тому подобную мелочь; ночник трещал, разливая мигающий, дымно-багровый свет; громадная толпа, до невозможности загромоздившая избу, с страстным напряжением слушала «волю». Царило глубокое молчание, изредка прерываемое вздохами и осторожным покашливанием в руку. На печи слабо всхлипывала, вся преображенная радостью, столетняя старуха, мать Наума, тщетно унимаемая внучатами. У стола сидели старики, с важной и сановитой серьезностью внимая Каряге. Все были мокры от пота, красны от духоты и от мучительных усилий уразуметь волю.
Читать дальше