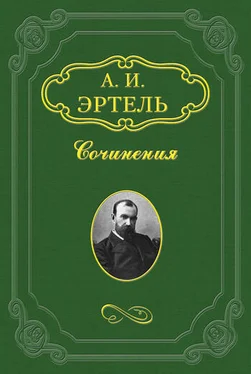– Вы смотрите у меня, – сказал он, – чтоб все на своем месте было! И, сокрушительно вздыхая, сел около меня.
– Вот беда-то, Миколай Василич!
– Что же делать!.. Видно, на роду было ей написано, – попытался я его утешить.
– Об ней-то уж что! – возразил староста. – Известно уж, господь с ней: такой ей, видно, предел… попущение божие!.. А ты вот погляди, как самим-то выпутаться… Первое дело, суд теперь наедет… Ну, это еще туда-сюда, это не то что смертоубивство какое – человек в своей смерти волен. А вот школу-то, сказывают, мы не по закону держали!.. Ишь, говорят, не было у ней таких правов, чтоб ребят обучать, и опять без начальства… Вот тут и подумай!.. – Он почесал в затылке и снова вздохнул глубоко.
– Василий Мироныч где? – спросил я.
– К становому поехал. Уж упросили. У него дружба с становым-то, авось как-никак застоит…
В это время за перегородкой раздался вопль. Сначала странный и слабый, он протянулся долгим и каким-то болящим звуком и затем перешел в горькие и порывистые рыдания. Я бросился за перегородку. У постели, наклонившись над трупом, билась и трепетала Алена. Плечи ее судорожно вздрагивали, темные волосы беспорядочно распустились и покрыли изможденное лицо офицерши, руки крепко сжимали ее худенькое оцепеневшее тело.
У двери столпились бабы. Староста подошел было к Алене и попытался отвести ее от трупа, но затем махнул рукою и, как бы мимоходом смахнув слезы, выступившие на глаза, вышел на двор. Бабы всхлипывали все громче и громче. Некоторые из них тихо причитали. Рыданья Алены становились глуше и протяжнее, в них начали прорываться слова, и бессвязные восклицания понемногу переходили в страстный и невыразимо тоскливый монолог.
– И что же ты наделала?.. На кого же ты покинула меня?.. – причитала она. – Печальница моя… радельница моя… победная ты моя головушка!.. Я ли тебе не угождала… Я ли тебя не любила…
Сил моих не было терпеть более… Спазмы сжали мое горло и душили меня. Сердце болело сосущею болью. Я быстро вышел из школы. Тонкий и ноющий звук колокольчика послышался вдалеке. Вероятно, это спешил становой. Солнце по-прежнему сияло, и торжественно опрокинутое небо синело кротко и ласково.
Спустя несколько дней я получил приглашение от следователя «пожаловать к нему по делу». В некотором недоумении явился я в его камеру. Следователь оказался очень любезный человек в черепаховом pince-nez, с брюшком, выхоленный и подвижной. Он подал мне распечатанный пакет.
– Что это? – спросил я.
– А это согласно воле березовской учительницы… Извините, что распечатано: так было нужно… И к слову добавлю – прелюбопытная вещь: вот психоз-то изумительный!.. Это письмо чрезвычайно облегчило мне следствие. Скажите, пожалуйста, вы с ней хорошо были знакомы?
– Это допрос?
– О, помилуйте! Следствие уже закончено; я уже разрешил и похоронить, как просила покойница, на кургане. Где-то там курган у вас есть Дозорный, так на нем. Препятствий к тому не оказалось.
– Что же выяснилось из следствия?
– А констатировано отравление морфием. Самоубийство, конечно… Впрочем, позвольте, я прочту вам показание Елены Остаховой.
Он вынул из портфеля «Дело № 327» и, быстро перевернув несколько страниц, начал:
«Зовут меня Елена…» – ну, это неважно, – «лет осьмнадцать… вероисповедания православного…» – а к слову сказать, удивительно красивая и характерная девка, – заметил он, с приятностью улыбаясь; но тотчас же, изобразив в лице своем серьезную сосредоточенность, воскликнул: – Вот! – и начал читать: «Дюже тосковала и, почитай, не говорила… (Он сделал ударение на „дюже“ и „почитай“ и в скобках произнес: „Я всегда заношу подобные слова; это, знаете ли, придает колорит…“)…почитай, не говорила. Лежала больше. Раз встала ночью, села писать. Обучать совсем кинула. Попрекали ей. Ходили мужики и бабы и попрекали. Говорили: ты деньги берешь, а учить не учишь. Она все молчала и вдруг говорит: „Я не хочу ваших денег“. И все говорила о какой-то кабале. Потом опять молчала. Потом позвала меня и говорит: „Болят у меня зубы“. И говорила тут ласково. Наказывала, как жить: чтобы хорошо, честно. И потом сказала: „Не спится мне, сем-ка я выпью лекарства“. Потом взяла зубное лекарство – выпила. Я смотрю как оглашенная… Как же, говорю, ты пьешь, нуу-кось умрешь с того? „Пускай“, говорит. И тут я испугалась. А она взяла меня за руки и говорит: „Не бойся, я, мол, в шутку тебе сказала, что умрешь от того лекарства, оно сонное“, и опять наказывала мне, как жить. Плакала. И потом сказала: „Кружится моя голова“. И опять плакала и говорила. Ну, тут стало ее тошнить и ослабла. Я говорю: „Ляжь, говорю, засни“. Она легла… Вот и все. Больше я ничего не знаю».
Читать дальше