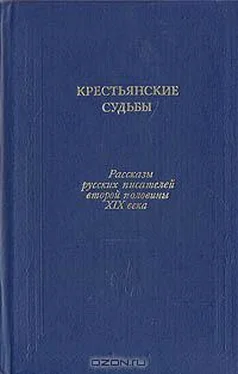Иванъ Сизовъ не понялъ и десятой доли въ речахъ хозяина; еще въ начале онъ пытался возразить, но далее, подавленный массой мудреныхъ словъ, опешилъ окончательно и сиделъ съ раскрытымъ ртомъ, какъ оглашенный. «Экъ честитъ!» — только и думалъ онъ.
— Такъ вы думаете, что небрежность и поклоненіе силе — главныя причины развитія кулачества въ этой местности? — спросилъ статистикъ.
— Пожалуй, — отвечалъ судья.
— И вы не находите внешнихъ причинъ этого развитія?
— Никакихъ. Я потому-то и говорилъ почти объ одной Березовке что жизнь въ ней была обставлена такъ хорошо, какъ только можно желать. Следовательно, березовцы сами виноваты.
Иванъ Сизовъ изобразилъ на своемъ лице виновность. На его почерневшемъ отъ солнца, а теперь лоснящемся отъ пота лице отражалось стыдливое смущеніе. Онъ въ последній разъ опрокинулъ вверхъ дномъ свою чатку, положилъ на нее крошку сахару съ самою внимательною осторожностью и попробовалъ утереть лицо, въ то же время поглядывая со страхомъ на господъ, въ ожиданіи минуты, когда они снова начнутъ «честить». Но его честные, прямодушно мигавшіе глаза ни одного раза не сверкнули злобою; достаточно было одного ласковаго и милостиваго одобренія его со стороны судьи, который сказалъ статистику, что разговоръ не относится къ Ивану Тимоееичу и что онъ — душа-человекъ («люблю такихъ!»), достаточно было судье высказать это и прекратить разговоръ о кулачестве чтобы замешательство и стыдливость его моментально прошли. Онъ весь какъ-то распустился отъ этой ласки, глаза засветились благодарностью, и онъ вдругъ сталъ шумно разговорчивымъ. Впрочемъ, всякій разговоръ скоро смолкъ, потому что статистикъ ушелъ побродить съ ружьемъ, а мировой судья селъ къ окну и принялся насвистывать маршъ. Иванъ долго сиделъ въ молчаніи, не желая прерывать художественнаго занятія хозяина.
— Миколай Иванычъ! — сказалъ онъ, наконецъ.
— Что? — безсознательно откликнулся судья.
— Я все насчетъ давишняго. Ты говоришь, сами виноваты, что даемъ волю богатеямъ. Такъ. А какъ же не дать имъ воли? Надо судить по человечеству… Не знаешь ты нашихъ деловъ, ей-ей, Миколай Иванычъ!
— А какія ваши дела? — спросилъ также механически судья.
— У насъ-то? Первое наше дело — міръ, стало быть, грехъ завсегда. Разъ.
Судья засвисталъ, улыбаясь.
— Второе наше дело — науки нетъ. Два.
Судья захохоталъ.
— Все? — спросилъ онъ.
Иванъ Сизовъ оторопелъ. Онъ думалъ, что воочію доказалъ несправедливость словъ судьи и вдругъ надъ нимъ смеются! Онъ постоялъ-постоялъ около косяка двери и собрался уходить, для чего сталъ прощаться съ хозяиномъ. Последній выдалъ ему деньги за работу и отпустилъ съ приглашеніемъ заходить почаще. «Я люблю такихъ», — еще разъ повторилъ онъ, а на разговоръ просилъ не обижаться.
Идя отъ дома судьи къ деревне Иванъ замечтался. Ночь была хорошая. Угостили его хорошо. И похвалили. «Душа», — припоминалъ онъ въ сотый разъ, и блаженнейшая улыбка играла на его лице во всю дорогу, пока онъ не столкнулся съ братомъ. Петръ его сразу огорошилъ. «Получилъ?» — спросилъ онъ. Иванъ досталъ кошель и высыпалъ на ладонь все медяки. Двухъ копеекъ не оказалось. «Где — жь оне?» — спросилъ подозрительно Петръ. Оказалось, что судья по ошибке не додалъ двухъ копеекъ. Петръ презрительно осмотрелъ брата и пошелъ тотчасъ же къ судье за полученіемъ двухъ копеекъ, которыя въ скорости и получилъ, за что бросилъ еще одинъ презрительный взглядъ на Ивана.
Два года, протекшіе со дня постройки двумя братьями крыльца у судьи, показали имъ невозможность не только совместныхъ построекъ крыльца, но просто сожительства въ одной избе. Имъ стало тесно.
Началась разноголосица пустяками, кончилась полнымъ сознаніемъ безтолковщины въ общемъ хозяйстве. «Главная причина — бабы», — говорили потомъ оба брата. Действительно, ихъ бабы довольно наделали бедъ. Смирныя, сносливыя и разсудительныя врозь, оне делались невыносимыми и оглашенными, когда обе вразъ торчали передъ печкой. Здесь оне кололи другъ друга словами, толкались локтями и подставляли другъ другу ухваты и кочерги. Все это мелочи, но оне заключали въ себе ядъ, разлагавшій сложную семью. Опрокинутые горшки, уроненныя кочерги и прочая дрянь ничего не значили сами по себе но, какъ орудія подкапыванія и мести, они служили превосходно. Уронитъ и разобьетъ Авдотья глиняный черепокъ — и Алена дойметъ этимъ черепкомъ свою противницу такъ, что осколки его глубоко врезываются въ тело той и остаются памятными ей на всю жизнь. Та и другая взаимно наблюдали за собой, выслеживая каждая свой шагъ. Сунетъ потихоньку Алена своей девочке кусокъ — Авдотья запомнитъ это и хоть заднимъ числомъ, но отравитъ съеденную пищу. Каждая изъ бабъ колотила своихъ ребятъ такъ, какъ только «лупятъ» въ деревняхъ, где то и дело раздается отчаянный ревъ отшлепанныхъ человечковъ. Но стоило только Алене щипнуть сынишку Авдотьи, какъ эта последняя поднимала въ избе целый содомъ.
Читать дальше