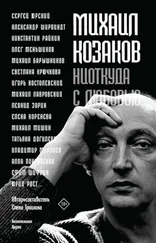Мы где-то были той ночью. То ли у ворот правительственной дачи Жискара, то ли на верхней площади средневекового, террасами над морем стоящего, городка. Одно я помню точно: пожар возле Сен-Рафаэля: тревожное зарево и тени самолетов, сбрасывающих черную воду над горящим сосняком.
Порш делал длинную туннельную дыру в ночи; передвижение было выстрелом. Мона спросила мой парижский телефон. У меня его не было. Она дала мне свой. Я так ей и не позвонил, а под Новый год узнал, что на этом же порше она сверзилась с обрыва, здесь же, на этой дороге, между Сен-Рафаэлем и Сен-Тропе, ночью, после дождя. Об этом мне рассказал ее муж. Мы сидели в Бильбоке, куда он меня пригласил, отличное трио наяривало Night in Tunisia и феллиниевская стопудовая Милица Батерфилд, скорее задрапированная, чем одетая, рычала так, что тряслись стаканы на подносе скользящего по лестнице официанта. Я не знал, что ему ответить. Она явно просилась если не туда, то прочь отсюда, а он поседел задолго до смерти Моны.
* * *
Как скоро я забыл Москву! Как скоро выучил кривой язык
парижских улочек... Я где-то жил - там неделю, здесь ночь. Я ходил в BHL в часы, когда на третьем этаже бойкая бабенка варила, рекламы ради, отличный суп в новой скороварке. Пять-шесть клошаров, какая-нибудь зазевавшаяся старушенция и явный внештатник левой газетенки следили за упоительным процессом сохранения витаминов. К сожалению, это был один и тот же, переморковленный, на бульонных кубиках, супец. Впрочем, грех жаловаться. Я посещал Самаритен перед серьезными свиданиями: там в районе шанелей и ланван можно было изрядно окропиться бесплатным одеколоном. Там же, в Самаре, на крыше под оранжевым зонтиком я дописал "Насморк свободы":
"Недопитое пиво, придавленные томиком Йетса страницы блокнота, облака и серо-розовый равнодушный город... Это город, где жить нельзя, если ты несчастлив... Нет, если тебе плохо, а набережные все же золотят душу, а закат льется мирно и успокаивающе, все еще не так плохо, значит, ожог в душе не так страшен и скоро безобразные струпья опадут, обнажив порозовевшую, но спасшуюся ткань существования...
Но если тошнит пеплом и пропала надежда, что случайный ветер, неожиданное чудо или точно адресованная помощь освободят от этого серого, тлеющего, уже равнодушного к боли ожога, тогда здесь жить нельзя. Тогда нужно бежать, завернувшись в плащ, спрятав голову под мышку, молотя промокшими сапогами по мостовым. В любом направлении - лишь бы прочь! Этот город - огромный усилитель, он только напрягает, доводит до предела чувства. И Париж разворачивает их в симфонию, выкручивает ручки громкости до суставного хруста. Как вопит тогда его хваленая красота, как вонзаются в душу иглы соборов, как мерзок шелест падающих листьев платанов, как нескончаем, ни с чем на свете не сравним этот зависший, закисший пронзительный дождичек, как мутна рыжая вода Сены, как безразлична нарочито счастливая толпа, бесконечно текущая мимо твоего остывшего кофе...
Мне попадались в те дни юродивые бабки, завернутые в пластиковые мешки с изяществом, которому позавидовал бы Кристо, одноногие попрошайки, псориазные красотки, изголодавшиеся по мордобою убийцы. Меня преследовали маленькие желтые плакатики всяческих обществ, желающих принять участие в моем самоубийстве. Мой слух был изрезан и кровоточил от рева полицейских и санитарных машин, а все перекрестки Монпарнасов, Сен-Жерменов, Распаев и авеню Обсерватории переходили, сбивая палкой невидимые поганки, бесчисленные слепые горбуны...
Вечерами Париж не пылает костром, а тихо тлеет в лучах заката, косо бьющих с Монмартра. Розовая Сакре-Кёр, теряя вес, под рев гитар идет на взлет. Дешевые украшения ночи, расплавленные духотой, оплывают, теряя резкость. Вечный рубиновый крестик самолета застрял в непогасшем облаке, бессильный пробиться к океану. Первые опавшие листья на острове Сен-Луи танцуют мышиные хороводы на ленивом ночном сквозняке. Над набережной миллионеров восходит луна. И она оплыла огарком. Ни отношения людей, ни приметы мира не могут уплотниться нынче до трезвой конкретности. В Чреве хозяин крошечной лавочки укладывает спать приехавших издалека друзей прямо на пухлых подушках витрины. Дрожат юбки и рубашки на вешалках, китайская чашка вместе с блюдечком ползет к обрыву полки - в магазине совершается дорожная любовь...
Днем я видел голых дам в меховом магазине на улице Лафайет. Их шубы унесли, их меха спрятали от прожорливых маленьких бабочек. Они стояли, растопырив цветущие пальцы, их груди и ноги лишь до половины были вызолочены краской - экономия соблазна... В три утра на Конкорд, отлепившись от потных джинсов, я пронырнул насквозь ледяную чашу фонтана. Незнакомая особь неизвестного пола на всех языках сразу приветствовала мое появление на другом берегу.
Читать дальше