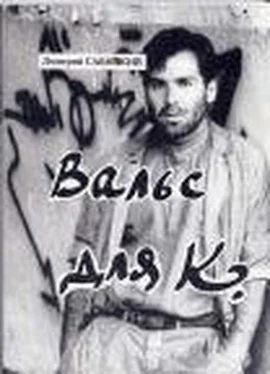Я зашел к Николаю Петровичу просто так, без всякой цели. Был лиловый, наполненный высоким дрожанием вечер. Весна уже вовсю хозяйничала в Москве. По крайней мере старые улочки Сретенки были пьяным-пьяны. Девушка с веточкой вербы попалась мне у самых его дверей. Она и сама была как эта веточка: распушенная, зябкая, сама из себя выглядывающая. Я постучал в грязное окошко — Николай Петрович жил в Луковом переулке, в коммунальной квартирке, в кривобокой комнатке в конце мутно-желтого коридора. Коридорчик валился набок, половицы скрипели и норовили куда-то выпрыгнуть, лампочка была отвратительно голой, и запах там был многих лет совсем не счастливой жизни. Кислый, угрюмый запах…
У Николая Петровича был кот: громадный, совершенно черный котофей. Снимая его откуда-нибудь со шкафа, Николай Петрович, он же Коленька или Никуша, обычно говорил: «У этого кота вес дорогой колбасы».
Открывая дверь, я уже знал, что мурлыка трется спиной об этажерку, сыплет бенгальские искры, ждет, мерзавец, чтоб ему почесали за ухом. Там у него солиднейший шрам — драчун он, этот славный котофей.
Николай Петрович сидел в рыжем пятне света. Пыльный дореволюционный абажур с кисточками низко висел над столом. Комната Николая Петровича непосвященному напоминала книжный склад. Все, кроме маленького островка вокруг стола и вечно разобранной постели за драной ширмой, было заставлено книгами. Конечно, был шкаф, были полки, был падающий, накрененный стеллаж, но это было как бы нормально. Николаю же Петровичу места не хватало, и весь пол был заставлен стопками, пирамидами, башнями книг. Между этих завалов по узенькой тропиночке вслед за хвостом котофея я и прошел к столу. Неловко волочить за собой описание, но стол был как бы уменьшенной копией комнаты: свободные островки, тропиночки, а остальное было занято бумагами, вавилонами писем, вифлеемами каких-то даров, передвигать которые категорически возбранялось. Николай Петрович протянул мне через стол свою худую, очень бледную руку. «Здравствуйте, Охламонов, — сказал он совсем не московским голосом. — Хотите чаю?»
Двигался он в своих папирусных джунглях мечтательно: пригнет плечико, чтоб не сшибить криво высовывающийся последние полгода фолиант сапожника Якова Бема, перескочит возле окошка через связку детских сказок и вот уже включает старинную спиральную плитку, тычет ножом в проводки, льет из графина запасливую воду в кружку — на кухню он не выходит, терпеть не может. Дело в том, что Коленька, Никуша, грустного, а скорее затемненного, что ли, вида человек лет около тридцати, — поэт. Однажды он вышел на коммунальную кухню за чепухой: спички или соль — и, к несчастью, попал в скандал, самый обычный, когда размахивают руками, говорят обидные слова, трогают за плечо и так далее. И Николай Петрович совершенно, как он сказал, потерял строчку. Начисто. Он просидел над пятном бумаги всю ночь, но убитая строчка не вспоминалась. С тех пор варил он чай и картошку на подоконнике в комнате.
Больше всего неприятностей ему доставляли женщины, особенно случайные. Они приходили в совершенный восторг от его комнаты, задавали один и тот же идиотский вопрос — что-то вроде «А где можно записаться в эту библиотеку?..» — и пытались что-нибудь вытянуть из-под самого низа, так что Николай Петрович, зеленея, бросался спасать наклонившуюся башенку восточной поэзии, готовую не только засыпать тропинку, но и сбить еще пару таких же соседних строений. «Ах, Бога ради, не трогайте!» — кричал он, и дамы обычно останавливались. Их удивлял тон его голоса, они чувствовали, что это серьезно. «Я очень боюсь, — объяснял он им, — неизвестных перемещений». Николай Петрович — и в этом вся суть — все эти книги прочел. И абсолютно точно знал, где какая книга лежит.
* * *
Поднимая глаза от строчек, я, может быть, должен был бы извиниться за некоторую расплывчатость и соскальзывание, но само время тогда было замутненное, многое еще не проявилось и сам воздух, как тромбами, был забит всеми этими «как-то», «где-то» и «вроде бы». Мало того: и будни, и праздники были изрешечены пулеметными очередями многоточий… Мы жили, недовоплощаясь.
* * *
Вода пропела свою коротенькую песенку и была влита в грязного цвета чайник. «Охламонов, — попросил хозяин, — умоляю вас, не двигайте ничего на столе…» Я не обижался. Фраза была ритуальной. Я лишь однажды подвинул поближе из-под грота каких-то бумажек портрет женщины с высокой трудной прической и затуманенными глазами. Лицо было совсем нездешним, такие не попадаются на наших улицах. Я засмотрелся — в тот раз мы поссорились.
Читать дальше