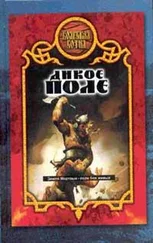Он пошел пешком вдоль запертых ларьков букинистов в сторону Шатле. Набережная была пустынна, магазины, как и на Елисейских Полях, опустили железные веки. Так же пустынна была и Сена. Осокину показалось, что Париж вымер, что все уже уехали и что он остался один в городе, где вчера еще было пять миллионов жителей. Но, дойдя до Шатле, он снова увидел беженцев; появились всевозможные повозки, телеги, грузовики, велосипедисты и неизвестно откуда взявшиеся извозчичьи коляски. Прижатая общим течением к тротуару, маленькая старушка в черной шляпе со страусовым пером, раскачивавшимся из стороны в сторону, с трудом толкала детскую коляску, в которой сидел, свесив передние лапы наружу, огромный бело-коричневый сенбернар. Было видно, что старуха тащит собаку уже много километров и что силы ее на исходе. Сенбернар сидел торжественно, лениво пошевеливая отвислыми ушами, недовольно косясь на пролетавших мимо велосипедистов. «Ведь ей еще предстоит подниматься в гору по бульвару Сен-Мишель, а потом, когда она выйдет из города… Впрочем, у нее сил станет, только чтобы добраться до Порт д’Орлеана».
Ресторанчик, помещавшийся позади музея Клюни — здесь по воскресеньям обедал Осокин, — был открыт. Но тут никого не было, и опять эта смена многолюдья и пустоты неприятно подействовала на него. Хозяйка появилась на несколько минут в обеденном зале и, предупредив Осокина, что ему придется подождать, начала ахать. От этого аханья ему стало еще тоскливее и он мысленно выругал себя, что вместо отдыха в отеле после бессонной ночи предпринял эту бессмысленную поездку по городу. Хозяйка ушла на кухню, и Осокин бесконечно долго ждал обеда. Глаза слипались от усталости. За кружевными, туго накрахмаленными занавесками виднелась узкая улица, матовая витрина булочной, покосившийся фонарь. Осокин вспомнил, как в бытность свою студентом он в первый раз попал в этот ресторан. «Мне было двадцать шесть лет, и я был влюблен — в последний раз в моей жизни. В последний раз! Больше это не может повториться». В те годы он жил по соседству, на улице Сен-Жак, в длинной мансардной комнате, откуда были видны все крыши, трубы и флюгера Латинского квартала. Подробности романа с Люси, восемнадцатилетней дочерью хозяйки этого самого ресторана, начали всплывать в тумане — неясные приукрашенные временем. Но ярче всех поцелуев, всех долгих разговоров в подворотнях улицы дэз Эколь, всех встреч в Люксембургском саду, вспоминался противный скрип стула и синие лайковые перчатки, лежавшие на его письменном столе. Теперь Люси в провинции, и у нее трое детей. Вместо образа той Люси — тоненькой и легкой — он увидел перед глазами фотографию, которую недели две назад показывала ему хозяйка: чужая, совершенно незнакомая женщина в нелепой модной шляпе, похожей на перевернутый кувшин умывальника, с лицом, немилосердно растушеванным плохим провинциальным фотографом. Осокин даже не мог сказать, красива ли была эта женщина, настолько несходство с тем, что он помнил, поразило его.
Наконец хозяйка принесла обед и сказала Осокину, что ему придется уходить через заднюю дверь — клиентов сегодня нет, и она решила закрыть ресторан.
Весь остаток дня, проведенный Осокиным в городе — он вернулся к себе в отель к трем часам, — слился в одно мутное пятно, где все перемешалось и расплылось: невкусный обед, караваны беженцев, пустые улицы, дома с закрытыми ставнями, невероятная толчея на Пон-де Нейи, полицейский, заставивший его сделать крюк и проехать через Порт-Шампере.
Перед дверью своей комнаты Осокин встретил соседку — хромоногую жену могильщика. Обыкновенно растрепанная и грязная, на этот раз она поразила его своим благообразием. Она стояла на площадке лестницы, сложив руки на животе, как будто показывая свой чистый передник, обшитый кружевной полоской.
— А вы уезжаете? — спросил ее Осокин. Он хотел было пройти мимо, не дождавшись ответа, но во всем облике старой женщины была столь явная просьба обратить на нее внимание, что он задержался.
— Нет, мы остаемся в Париже. Зайдите ко мне, — попросила она таинственно, немного робеющим голосом.
Осокин поднялся на последний, третий этаж. В маленькой мансардной комнате было темно дневной свет еле пробивался сквозь решетчатые ставни. В воздухе стоял неистребимый запах жареного лука, винного перегара и нищеты. На кровати в полном беспамятстве лежал могильщик и протяжно храпел. На фоне окна вырисовывался тонкий, почти прозрачный силуэт девочки, которая, сидя на подоконнике, старательно штопала чулки. Осокин не мог понять, что она видела в сумраке, наполнявшем комнату.
Читать дальше