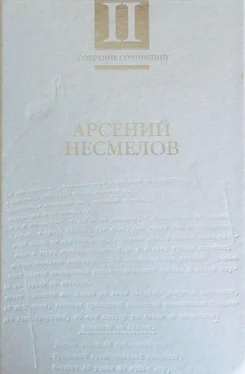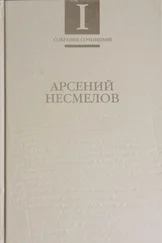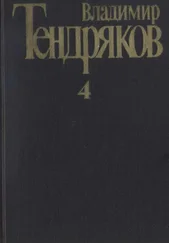Хомяк победоносно, словно гордясь тем, что прочел, поднял молодое, свежее лицо, чуть тронутое загаром и ветром.
Мы, конечно, заинтересовались. Стали требовать, чтобы читал дальше.
— Сколько угодно! — охотно согласился Хомяк. — Тут вся страница из таких объявлений: «Etrangere, jolie, jeune, tres bien faite, caractere fantasque. Il me plait parfois d’amincer ma taille et la comprimer strictement… Quel homme du monde aise de gout rafflne me comprendra? Ecrire Tanagra…» [46]
Морща гладкий лоб, Хомяк стал переводить, по нескольку раз повторяя некоторые французские слова, чтобы вспомнить их значение:
— Иностранка, красивая, молодая, очень хорошо сделанная…
— Что? — захохотал я. — Ну и переводчик!
— Дурак, не понимаешь! — отмахнулся он. — Ну, хорошо сложенная, с характером… fantasque… фантастическим, что ли? Дальше очень трудно… Она пишет, что ей нравится иногда делать тоньше, утончать свою талию. Опять непонятно, а дальше вот что: «Какой состоятельный светский человек с утонченным вкусом может ее понять?»
Широко раскрыв серые, еще детские глаза, Хомяк тоном, каким обращаются за разъяснениями к старшим, спросил у Степнова:
— О чем это она, а?
— Стерва! — фальшиво поморщился Степнов, задвигав губами, словно почувствовал во рту избыток слюны. — Делать тоньше талию ей правится, видите ли! Что-нибудь неприличное, французское…
Хомяк продолжал читать и переводить объявления до тех пор, пока китаец в трех чашках, похожих на чайные полоскательницы, не принес пельменей со свининой, с «чушка мясо», как сказал он, ставя посуду на стол. Но мы не сразу обратились к еде, хотя были сильно голодны. В дымном, полутемном углу за циновками слишком уж раздражающе звучали эти женские имена и псевдонимы, для произнесения которых губы надо было складывать как для самых нежных русских слов…
— Клодиа, Танагра, Дарсия, Каприсьез…
И обладательницы всех этих певучих имен писали лишь о своей молодости, о красоте ног, груди, глаз. Они делали в письмах какие-то намеки, значения которых мы не понимали, но своей мужской сущностью угадывали их сокровенный смысл.
Глаза заблестели, голоса стали несколько хриплыми. За девятнадцать дней блужданий по тайге и сопкам мы ни разу не подумали о женщине. Теперь же с замызганных листов этого парижского журнальчика в наши нервы вдруг скользнул некий содрогающий ток. Степнов взял журнал из рук Хомяка и. шевеля губами, стал с трудом читать французские слова, нараспев произнося женские имена:
— Клодиа… Роли… Диана…
Его ноздри дрожали, он слишком близко к лицу держал эти соблазняющие листы. Мне показалось, что он ловит с них запах тела этих парижанок, за сто, двести, триста франков («Гроши если на иены», — подумал я) предлагающих свою любовь обеспеченным светским людям с утонченным вкусом.
Мне стало немножко противно и страшно.
— Что мы, с ума сходим, что ли? — выругался я. — К черту! Та-ра-рам!
— С гусаром! — поддержал меня Хомяк и крикнул китайцу, заглянувшему за циновку:
— Джанкуйда, неси водки!
Всегда расчетливый и предусмотрительный, Степнов на этот раз не протестовал. Пельмени мы ели китайскими палочками, что было очень нелегко. После нескольких рюмок водки стали, хохоча, не захватывать пельмени, а протыкать их. Китайчата смотрели в щели и, весело смеясь, кричали то «Хо!», то «Пухо!» [47].
III
Девятнадцать суток тайги. Клещи, от которых не было спасенья; пугающий, потому что похож на собачий (не люди ли поблизости?), лай диких козлов по ночам, проводимым у костров. Бесконечный путь по тропам и без троп; хребты, взятые в лоб. Временами отчаянье, временами бесконечная усталость, когда безразлично решительно всё; засыпание, похожее на падение в яму, и жестокая мука пробуждения от утреннего холода — был еще только май, — когда мокрые ноги кажутся налитыми свинцом.
И вот, в награду за всё это, неожиданная ловушка этого городка, может быть, кордон пограничного ГПУ, дула наганов ко лбу, тюрьма, смерть. И рядом с этим — голая длинноногая женщина со шляпной коробкой на сгибе круглого локтя. Женщины, восхваляющие свою красоту и молящие о сотне жалких франков.
Какая-то ярость защипала наши сердца. Что-то в душе напряглось, как напрягаются ноги перед прыжком. Нам не лежалось на мягком, застланном циновками кане ночлежки, куда мы снова вернулись, ибо все улицы городка были уже исхожены, дальнейшее же бесцельное блуждание мимо лавок и магазинов могло купцам и полицейским показаться подозрительным.
— Париж! — шутовски пищал Хомяк, стуча пятками по циновке кана. — Я закрываю глаза и представляю себе то, что видел в кино. Улица Парижа ночью. Огни, огни, огоньки. Они стоят и бегут. Эти бегущие — автомобильные глаза. А над крышами вспыхивают и погасают огненные буквы реклам…
Читать дальше