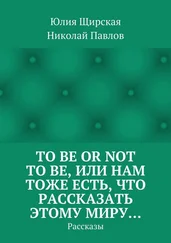-------------------------------------
МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
В десять лет я была человек решительный, и когда мне надоело бегать с утра до ночи по каменным московским переулкам, играть с мальчишками в казаки-разбойники, я просто взяла и пошла в музыкальную школу на площади Пушкина и попросила принять меня учиться. Тот факт, что я знаю наизусть все оперы и не пропускаю ни одной музыкальной передачи по радио, казался мне вполне достаточным для приема - однако учительница, строгая, сухопарая, из дворян, судя по виду, держалась другого мнения. Оказалось, что я переросток, начинать надо было в пять, когда пальчики нежные, а в моем возрасте следовало уже играть разные там сонаты Бетховена, важного, как все глухие, или еще того чище, Баха, который жил так давно, что неизвестно, о чем и думал.
Но за деньги (хе-хе, денежки все любят), она могла согласиться давать мне частные уроки. Разговор происходил в коридоре, и из-за всех белых дверей доносились наводящие зависть рояльные рулады. В одну из таких дверей она и удалилась, прижимая к плоской груди тяжелые ноты.
"Подумаешь, барыня какая", - решила я ей вслед.
Учительница смутно меня обидела - впервые я осознала, что обретаюсь в низших слоях общества, где детей не учат языкам и музыке, а объяснять ей, что у меня отец погиб на фронте, так что я и не помню его, а о маме вообще, нечего и говорить - так как объяснишь подобные вещи? Сама должна понимать, не маленькая. Всей-то моей жизни была война, да эвакуация, да вот еще Москва послевоенная - а этих музыкантов будто и не касается ничего. Дураки.
И, выйдя на жаркую площадь, я остановилась огорченно около ихней вывески, не зная, что же мне делать. Кругом бежали, будто муравьи по дорожке, люди. Каждый тащил какую-нибудь ношу - кошелку, две, чемодан. Никому не было до меня дела. Я вдруг увидела себя со стороны - кто это там стоит на тротуаре, такой маленький, жалкий, весь пораненный какой-то? У меня, действительно, была ссадина на лбу (об вагонетку), сбитые локти, и на ноге, около самого драного носка - огромнющий, чернющий синяк (об железные ворота). Обычно я на это внимания не обращала, но сейчас, в этом приступе жалости к себе, у меня все раны заболели, как у инвалида Отечественной войны.
И потому очень мрачно, хлеща горе стаканами, я отправилась домой, по всей цепочке безобразных переулков, которые ведут от Пушкинской к обеим Бронным - Палашевский, Южинский, Трехпрудный, Козихинский, направо, налево, направо, налево - но с каждой минутой, по мере приближения к дому, со мной происходили все более чудесные и разнообразные превращения. Сущность моя наполнялась все более геройским содержанием, и синяки сверкали горделиво. Шел не кто-нибудь, а известный в этих местах человек, непобедимый казак-разбойник, которого никто и никогда догнать не мог; личность, высоко стоящая в иерархии дворовых отношений, которая собиралась, к тому же, заняться музыкой - да, да, мы сами слышали, она замечательно играет! Бах этот - ей раз плюнуть (я сплюнула), Бетховена шпарит - любо-дорого...
Так что в квартиру я вошла уже повеселевшая, привычно не обращая внимания на соседа-слесаря, который был человек скромненький, хоть и пил смертным поем - и похватав оставленную на столе картошку, направилась прямехонько к этому таинственному черному ящику, который притулился себе в углу, случайно уцелевший после эвакуации.
Стояли самые сумерки. Я подняла крышку, нажала на клавишу, и он произвел длинный, расстроенный "бом", будто сообщил что-то очень важное но что? "Бом" облетел нашу большую темную комнату, обмахнув предметы, и оглянувшись, я увидела, как мы стоим подряд в полумраке - пианино, я сама, комод, мамина кровать, стулья... Для чего мы все? Что произойдет с нами в будущем? Через год, через два - мы будем стоять вот так же, но ведь когда-нибудь, кто-нибудь уйдет - кто? Комод, наверное, - у него был такой вид. А вдруг это буду я, в сосновом гробу? Вот когда мама пожалеет! Закричит "Доченька моя, встань поскорее!" А я лежу вся белая, каменная... Нет, ей богу, что ж это такое... Слишком рано, безобразие какое-то... И я дунула на улицу, где давно уже павлиньими голосами кричали ребята.
Наутро я стала думать - где же, все-таки, взять деньги? Мама, конечно, платить не могла. Она вообще после смерти отца стала не в себе - то есть, ничего такого она не делала, а просто вечерами, отработав восемь часов, отстояв в очередях, отстирав, приобрела манеру сидеть на своей большой кровати, свесив ноги, и шептать что-то самой себе сухими губами. Или она бродила с распущенными волосами, как Лючия ди Ляммермур ("Входит Лючия; ее вид подтверждает страшные предположения Раймонда" - как было сказано в либретто).
Читать дальше