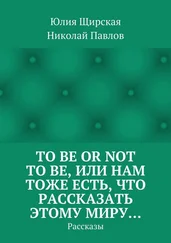Он побежал к Гене, уложив жену после страшной истерики, со снотворным, - сын спал, слава богу, - и она вышла на лестничную площадку, в незнакомом байковом халатике, держа руки у горла. Он кое-как рассказал ей, что случилось, а она смотрела на него с ужасом, и из глаз ее текли слезы, совершенно беззвучно, тихо, и только временами она переглатывала, непроизвольно. Он что-то шептал ей, обнимая, судорожно целуя-но она ничего не слышала, дергаясь от всхлипываний, стараясь удержаться-потому что за дверью стоял муж и слушал.
Кто-то начал подниматься по лестнице, тяжело ступая, шли сюда-деваться было некуда, на двери чердака висел огромный ржавый замок-и он сам втолкнул ее в полуоткрытую дверь квартиры, и захлопнул крепко. Подошел плотный, пожилой мужчина, сосед, похожий на серого борова, поглядел подозрительно, долго возился с ключами,-наконец, вошел. Теперь была его очередь стоять у дверей и слушать; какие-то очень слабые звуки доносились из глубины, может быть, рыдания.
Появился черный кот, сел, аккуратно подвернув хвост - имел, наверное, право, жил здесь. Сергей испугался, что коту откроют и увидят его-и начал спускаться по лестнице. Это была узкая московская лестница, в таком же панельном доме, как у него-и на второй площадке ему стало худо, заломило сердце, он захлебнулся слюной и сполз на ступеньки. Он сидел на лестнице, пока внизу опять не хлопнула дверь - и тогда, кое-как, на карачках, спустился вниз и на улице уже отдышался.
И пошла эта новая, предсмертная жизнь, вся в сером тумане, на последнем издыхании. Они встречались после работы, около ее института. Он уже не работал-ушел сам, чтобы не подводить Валю и Леву, и ночами грузил хлеб в булочной-и стоя возле института, в старой кепке и пальто, чисто выбритый, только сдержанно кивал тем знакомым, которые не боялись поздороваться. Все они шли после семинаров, экспериментов-убогих, он знал это, но удержаться не мог-завидовал. Как на грех, в булочной ему приходили в голову хорошие идеи, и он записывал их, потому что проверить негде было.
Выходила она, эта родная девочка, дочка, в синем, на боку беретике; она бежала к нему, и он брал ее маленькую ручку, засовывал вместе со своей в карман, и так они ходили часами, по улицам, и он гладил, ласкал эту ручку, потом брал другую, и вся их жизнь была в этих руках, переплетавшихся, сжимавших друг друга.
Два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, Валя Костюченко предоставлял им свою квартиру, и они могли хоть немного утолить свою страсть, которая начала принимать катастрофические размеры. Он уже не мог существовать, если не звонил ей утром, домой, и потом днем, на работу, и всегда более или менее знал, как она спала, что ела, чем сейчас занимается. Не было такой вещи, в которой она отказала бы ему, а он, зная, что осталось всего-то ничего, тридцать, сорок таких понедельников и четвергов, умирал от своей тяжелой страсти, и, отправляясь после свидания в булочную, в ту же ночь уже грезил, представляя себе Геню, раздетую, чудовищно прекрасную, и как и что они будут делать в следующий раз. От понедельника до четверга время шло быстро, но от четверга до понедельника он маялся, как на каторге, потому что суббота и воскресенье были дни семейные, пустые, когда они совсем не виделись, когда даже голос ее в трубке звучал не так-а он не мог выяснить, в чем дело.
Он ходил гулять с сыном, а сам считал-еще двадцать восемь часов до понедельника... еще три до ночи и двадцать до конца работы... еще восемнадцать-и они в костюченковской квартире; и когда этот миг все-таки наступал, он испытывал такую болезненную нежность, такую благодарность судьбе, будто и не было большей проблемы, чем дожить до понедельника, и все их муки и горести кончались на этом.
Они лежали потом блаженствующие, и слушали вполслуха радио, которое всегда тихонько мурлыкало в уголке и было настроено только на "Голос Америки" - другого Валя ничего не признавал.
Другой, свободный мир шумел где-то там, говорил по-английски, смеялся, пел-счастливые, непонятные, чем-то заслужившие свою свободу люди. Боже мой, вместе с Геней, увидеть Париж, Лондон, Италию... Прийти в кафе, взять чашку кофе, газету, заложить ногу на ногу, сказать громко: "Правительство наше-дерьмо собачье"... Или, скажем, так:
"Козла выжили, а все псиной воняет..." Нет, это для них слишком тонко, не поймут, лучше так...-и Геня зажимала ему рот, чтобы соседи не услыхали. Сама она не хотела ни в Париж, ни в Лондон, а только в Иерусалим. Один звук этого имени казался ей волшебным. Для нее это был не город, где пьют кофе или покупают мыло, а некоторая таинственная обитель, специально для духовных потрясений.
Читать дальше