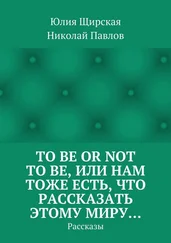В конце концов, Геня плюнула и вышла за него замуж, считая, что лучше пусть она одна будет мучаться, чем они оба. Женившись, он продолжал свою линию, которая заключалась в том, что Геня должна быть счастлива и заниматься наукой; поэтому, когда родилась дочка, он отправил Геню работать, а сам остался дома-случай беспрецедентный в мировой практике; ребенок, конечно, был ухожен мастерски, и он еще успевал подрабатывать в вечерней школе, преподавая физику. Дома он все делал сам, и на каждом шагу у них щелкало и выключалось какое-нибудь автоматическое его изобретение, а беленькая дочка играла потрясающими дидактическими игрушками собственного производства, развертывающимися и раскладывающимися в трех измерениях.
Через три года он, наконец, решился, отдал дочку в детский сад, вздохнул облегченно-и отправил Геню на конференцию, делать доклад. Вот какая это была конференция, и вот почему Генины знакомые глаза отводили, когда наша парочка, с утра пораньше, прямо после завтрака, в кедах и шортах, нахально проходила мимо зала заседаний и, сделав ручкой, лезла на очередную вершину. Геня сорвалась с цепи, и, видя это нарастающее безумие, а также его изменившееся, как бы проснувшееся лицо, ученые-биологи мало помалу догадались, что перед ними не простая интрижка, а что-то вроде любви, и были поражены, что такое еще случается в наше время. Существовало, правда, течение, осуждающее этого матерого павиана, который воспользовался неопытностью втюрившейся в него девочки, и представители этого направления требовали напомнить об ответственности, пристыдить, просто поговорить, наконец.
Провернуть это дело взялся верный ученик. Лева Розенцвайг, несмотря на угрозу побоев и эпитет "говно" со стороны Вали Костюченко. У Левы были свои интересы-накануне поездки шеф недвусмысленно заявил ему, что собирается в Израиль, отчего Лева три ночи не спал, обсуждая это событие с мамой и тетей, блеющими со страха-пока у тети не случился микроинсульт, и на Израиль было наложено табу. Между тем Лева перестал писать диссертацию, волновался, бегал и каждый день принимал новое решение: по четным, а также погожим дням он понимал, что надо ехать с шефом, за которого наверняка будут просить иностранные ученые и тогда он. Лева, тоже попадет в обойму; а по нечетным и вообще, плохим дням, он понимал, что все это наваждение, миф, и впереди-Биробиджан, как и предсказывала тетя. Хорошо было Вале Костюченко, который, как русский, выбора не имел, угрюмо взирал на происходящее и заканчивал автореферат. Леве тоже следовало писать-если бы только знать, что шеф действительно решил оставаться, как следовало из его отношений с этой неизвестно откуда свалившейся Геней; и, не в силах находиться дольше в неизвестности, он как-то вечером продрался через кусты к тому месту, где они всегда кантовались, чуть не свалившись по дороге в овраг, в котором можно было свободно переломать себе ноги.
Они стояли, обнявшись, над обрывом, чуть-чуть покачиваясь, как бы лежа вертикально; над ними, на твердых кристаллических небесах неправдоподобно сверкали огромные горные звезды, закручиваясь хвостами, и глухо шумела внизу, ворочая камни, река. Продрогши как следует, Лева, не осмелившись потревожить шефа, который и в морду мог дать очень просто-он был такой-полез обратно через кусты. Надо было срочно браться за диссертацию-шеф оставался.
Шеф и сам так думал, когда звонил в дверь своей московской квартиры. Жена встретила его, радостно смеясь.
- Ты ничего не знаешь, - закричала она. - Меня уже увольняют!
На предприятии, где она работала, подал один кандидат, и тогда она тоже подала, чтобы создать, как она выразилась, целое дело.
- Зачем тебе дело? - спросил он тупо. Дело нужно было, чтобы на Западе знали и боролись как следует: жена имела секретность.
- Нет у тебя никакой секретности,-взмолился он,- третья форма, это же ерунда...
Но он уже знал, что все кончено; что дверь западни со скрежетом захлопнулась за ним, что он потеряет Геню, что он умрет без нее. Геня, Геня!
- Я не могу ехать,-сказал он хрипло.-Умоляю тебя...
Но дело сделано было; жена уже получила характеристику, уже прошла партсобрание, где ее исключили из партии, райком, где исключение утвердили - она подавала, в любом случае, с сыном - а это означало, что он ехал тоже. Оставалась одна, сумасшедшая, надежда - что Генин муж пустит Геню, отдаст дочку, или поедет сам-что угодно-вместе со своей матерью, старухой, крестьянкой, видавшей всех евреев в гробу, включая Геню.
Читать дальше