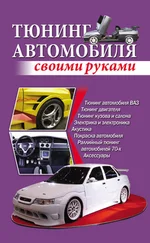- А глаза у него голубые? - осторожно поинтересовался я.
- Еще какие голубые, аж жгут! И еще сказал то же, что и ты в мастерской, когда я раздевалась: "Ты не женщина, ты - Азия!"
Я остолбенел. Мне будто льдинку сунули под рубашку - огонь и озноб. Пахло чертовщиной, здесь она была густо замешана, а я ее терпеть не могу. Но кто этот тип? Город маленький, человека в таком прикиде я бы обязательно запомнил, но он знал родителей Тинги и, значит, мог быть откуда угодно.
От этого разговора остался осадок, память о льдинке, и, когда я вспоминал его, становилось тягостно и тревожно на сердце.
Что же касается моей прекрасной знакомой, я не знаю, где она сейчас. Жизнь меня закрутила, завертела. Я скитался, охотничал, прозябал в больших городах и потерял из виду мое азиатское божество. К тому же во время скитаний я видел и знал много женщин, подобных ей. Это целый слой в природе. Целина! Они несгибаемы и нерастворимы. Это плодородие, тайная сила земли, сокрытая в навозе. Я, конечно, хотел бы узнать о судьбе Тинги, тем более что когда я вспоминаю о ней, сердце мое течет и тает, и мне приятна эта теплота. Все, что я понял в жизни, не несло в себе ничего тайного и оказалось таким малым, что уместилось бы на крохотной ладошке моего трехлетнего сынишки. Милосердие и доброта лежат на этой ладошке в виде божьей коровки. И маленький ангел, не ведающий смерти, просит коровку улететь на небо, там ее детки кушают конфетки. Он у неба просит конфетки. Просим ее у него и мы, но только в виде любви, жизни, благосостояния. Просим, хоть и знаем, что карты нам путает не небо, а наша земная страсть. Она - наша владычица и поводырь до самой могилы. И только милосердие и доброта - единственное спасение от ее настойчивых и мрачных требований. Что сейчас лежит на нашей ладони и что мы просим у неба, зачастую и сами не представляем. Пусть на этой ладони лежит любовь, она единственная вмещает и страсть, и милосердие, а значит, и всего человека. В этой же руке судьба наших детей, судьба будущего. Любви и доброты ему.
Пророк
Так я и жил, занимаясь своим делом, женился, растил детей, писал картины и совсем забыл, что когда-то ко мне из Москвы залетела стайка симпатичных девчат. Конечно, я помнил Тингу. Как кусочек древней керамики с волшебным узором, однажды найденный на дне горного ручья, этот милый колокольчик был всегда свеж и ослепителен в моих воспоминаниях. Стоило мне подумать о ней, как очарование захлестывало меня, и я чувствовал, что отказался от чего-то такого, что в миг разогнало бы сонь и дурь, царившие в моей душе. Но, не войдя в воду, не осилишь брода. Однажды осенью я тащился пустой, прозрачной улицей, спотыкаясь об углы переулков, направляясь к деловому, до зеленой скуки ленивому центру моего городка. Все вольные звуки жизни были выметены из его чванливого чрева, и даже вороны предпочитали гадить подальше от этой чахоточной стерильности. Внутри мертвой зоны, являя всем вытертое куриное декольте, спал припудренный и зализанный пес, беззубый зверь с холеным туристическим телом - тысячелетний кремль. Хорошо еще, что мимо несла прохладные воды мутная, но вечно юная река. Земля - золотая колдунья - плела легкие липкие паутинки и пряно пахла. Она остывала после долгой летней страды, подставляя золотые бока еще теплому сентябрьскому солнышку. В ее подоле прели леса, в косах вялились травы, горько кричали улетающие птицы. Мелела казавшаяся такой могучей остывающая река.
И тут я увидел Льноволосого - парня, с которым болтала Тинга на озере. Прошло лет пятнадцать, а он ни капли не изменился. Те же длинные патлы, голубые глаза, русая бородка. Он шел навстречу и пристально всматривался в меня своими голубыми глазищами, пытаясь что-то разглядеть во мне, недоступное другим. Голубое шило кололо и давило в переносицу. До боли. "Жлоб, - подумал я, - так же нельзя". Но парень, воткнув в меня острие скользкой льдышки, спокойно прошагал мимо. Одет он был в старый джинсовый плащ до пят, на котором были налеплены тысячи мелких плоских карманчиков. Плащ казался изношенным настолько, что не каждый дипломированный бродяга надел бы его, но хозяин плаща сиял стерильной чистотой, как надраенный унитаз у финна в деревенском туалете. И тут мне на ум пришел тот разговор Тинги с ним. Почему он назвал ее Азией? Мне захотелось поближе рассмотреть его молодую конструкцию и задать пару вопросов этой славянской льдине. Но увы! - горизонт был пуст, дичь исчезла. "Вот черт, - подумал я, - как ловко они научились сматываться! Тают, что ли?" Ну задал бы я пару вопросов ему, а он пару раз послал бы меня - и все дела. Как бы там ни было, но джинсовый герой исчез. Встреча с ним засела во мне, тяготила, ныла нарывом. Дошло до того, что он мне приснился.
Читать дальше