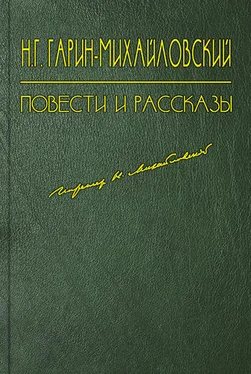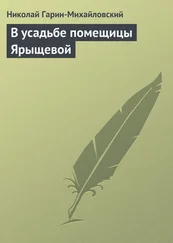Я поднял глаза и замер… Тот взгляд, который только что рисовался в моём воображении, я увидел в молодом Чичкове, злорадно и пытливо смотревшем на меня. Встретившись глазами со мной, он быстро опустил их и принялся работать лопатой… Я впился в него. Чичков ещё раз вскинулся на меня и ещё растеряннее и быстрее начал работать. Все стояли без движения, один он усердно бросал негодное зерно на хорошее, т. е. делал совершенно бессмысленную работу. Страннее всего то, что я забыл назвать его в числе тех, которых сапоги я велел принести. Теперь я заметил, что Чичков был одет с иголочки: на нём были чистенькие лапти, чистый полушубок; в противоположность всем, его лицо было чистое, умытое, волосы смазаны маслом. Не спуская глаз, я подходил всё ближе и ближе к нему. Он понимал и видел боковым взглядом, куда я иду, но усиленно не замечал меня.
– И Чичкова сапоги, – сказал я.
– Зачем мои сапоги? – спросил Чичков, побледнев и подымая на меня глаза.
– Потому что ты сжёг, подлец! – закричал я, не помня себя.
В глазах Чичкова рябнуло.
– Богатые не жгут.
Как молнией осветило мне всё.
– Ага! и отговорка готова, – сказал я. – А вот посмотрим.
– Я с Дмитриева дня не надевал сапог.
Дмитриев день – храмовой праздник одного соседнего села – был 5 дней тому назад.
– Скажи ещё что-нибудь, – сказал я.
– Нечего мне говорить больше, – сказал он, совершенно оправившись.
И, бросив пренебрежительно лопату, он сделал движение уйти.
– Стой! – закричал я громовым голосом. – Ни с места, или я тебя на месте уложу.
Чичков остался.
Принесли пар 30 сапог. Довольно было одного взгляда, чтобы понять всё. В то время, как все сапоги были серы, с кусками высохшей на них грязи, одна пара выделялась из всех своим чёрным цветом.
– Чьи сапоги? – спросил я, беря их в руки.
– Чичкова, – ответил староста.
– Понятые, – обратился я к ним, – посмотрите – сапоги мокрые, – он говорил, что надевал их на Дмитриев день последний раз.
– У нас телёнок под лавкой, он и намочил сапоги, – отвечал Чичков.
– Хорошо, и твоего телёнка посмотрим.
Стали примеривать сапоги к следу. Чичкова пришлись точка в точку. Шаг за шагом добрались мы до места, где след, выходя на большую дорогу, пропадал в массе других. Мы направились к избе Чичкова. От дороги к избе опять показался тот же след, но двойной – от калитки к дороге и обратно.
– Туда, значит, шёл большою дорогой, – пояснил Сидор Фомич, – а назад прямиком пошёл.
У самых ворот Чичков быстро пошёл в избу.
– За ним, старики, – крикнул я, – он идёт поливать под лавкой!
Я и другие побежали за ним. Мы вошли вовремя: Чичков с ковшом в руках стоял возле лавки, собираясь плеснуть.
– После, после плеснёшь, – остановил я его за руку.
– Что такое? в чём дело? – подошёл ко мне старик Чичков с невинною физиономией, точно ничего не знал.
– Вон, мерзавец! – закричал я. – Морочь других. Скоро, голубчик, сведём с тобой счёт… Ну, теперь со следом покончено, остаётся жердь и пакля.
Сидор Фомич прокашлялся и выступил.
– Жердь, сударь, не с крыши, а с хлебника. Если б она была с крыши, один бок её был бы пригнивший, соломка к ней пристала бы, а она сухая и ровная. Не иначе, как с хлебника, а паклю надо сличить (в каждом доме своя пакля, что зависит от силы, с какою выбивают: сильный бьёт – кострига мелкая, слабый – кострига крупная).
Потребовали паклю у Чичковых, сличили, и все признали её однородною с тою, которая была намотана на жердь.
Оставалось отыскать место, откуда была взята жердь. По указанию Сидора Фомича, отправились на хлебник Чичкова. В том месте, где с большой дороги сворачивала тропинка к хлебнику, снова обозначались следы, какие были около амбаров. Посреди хлебника стоял омёт соломы, придавленный рядом жердей, попарно связанных. Одна только жердь не имела с другой стороны подруги и мочальная верёвочка, служившая для привязки другой жерди, как флажок, болталась на верхушке. На омёте сохранился свежий след другой взятой жерди.
Присутствующие стояли поражённые неотразимостью доказательств. У молодого Чичкова, до сих пор бодрившегося, обнаружился полный упадок духа. Его худое лицо как-то сразу осунулось и почернело. Чёрные маленькие глаза перестали бегать по сторонам, безжизненно и бесцельно смотрели вперёд.
– Что, Ваня, – ласково обратился к нему староста, – видно, греха нечего таить, признаваться надо?
Чичков нерешительно молчал. Мужики пристали к нему:
– Не томи, родимый, развяжи грех. Некуда, видишь сам, деваться.
Читать дальше