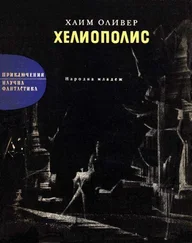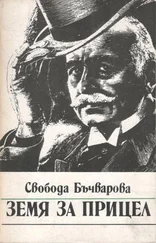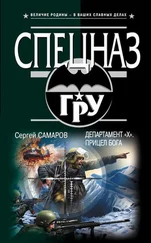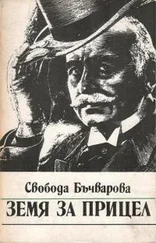Ханан почти умоляет: «Ребята, давайте покончим с этим». Мы вняли просьбам и собрались у его танка. Трое офицеров стояли напротив. Мы продолжали обмениваться между собой горькими замечаниями. Ханан просил нас помолчать, но по нему видно было, что он с нами. Офицер-следователь объяснил: они хотят, чтобы каждый рассказал об одном дне войны. Что происходило с ним в течение двадцати четырех часов. Обо всем, что в тот день случилось. Нам нечего опасаться. Нет необходимости называть себя и давать какие-либо личные данные. Анонимность нашего свидетельства гарантирована. Перед тем как нас пригласят в будку для личной беседы, каждый должен заполнить привезенные ими бланки с вопросами: сколько снарядов он израсходовал, какого типа, с какого расстояния. Как давался приказ стрелять, сколько было попаданий в бронированные машины и сколько — в небронированные, сколько целей уничтожил первый снаряд и сколько — второй. Сколько пуль в среднем было в каждой пулеметной очереди. Какие приказы поступали по линии связи, с какой скоростью продвигался танк. Использовались ли индивидуальные санитарные пакеты, и какова их способность останавливать кровотечение. И другие вопросы. Следователь раздал нам ручки, карандаши и опросные листы. Листы походили на таблицы, разграфленные на множество столбцов и клеточек, тонкие и шелестящие, переложенные копировальной бумагой. Пять копий.
Затем заговорил офицер из службы психического здоровья. Очень спокойно и очень медленно, успевая между словами проверять реакцию на сказанное по выражению наших лиц. Так, видимо, его учили. Он представился нам по имени, сказал, что они никуда не торопятся, у них есть время и есть терпение столько, сколько нам потребуется. Им очень важно услышать во всех подробностях обо всем, что случилось лично с нами, о большом и о малом, существенном и несущественном. О том, как стреляли и чем стреляли, и как вели себя раненые, и кто их эвакуировал. Они хотят узнать, было ли нам страшно и что мы делали для того, чтобы страшно не было, о чем молились и о чем думали. Даже сны наши они тоже готовы выслушать.
— Успокойся, приятель! Мы вполне нормальные! — крикнул ему Зада.
— Зависит от того, что принимать за норму, — шепнул Саша.
Следователь пригласил заходить по трое. Каждый со своей историей. Подошла наша очередь.
Три йешиботника вошли к ним в будку — Эльханан, Шломо и я. На войне Эльханан был водителем танка у Ханана, Шломо — наводчиком у Вагмана, заместителя командира батальона, а я — наводчиком у Гиди, заместителя командира взвода.
Следователь сидел в центре за столом, и перед ним в беспорядке лежало множество разных бумаг. Лицо напряженное. Справа от него — офицер-психолог. Перед ним стоял только стакан с водой и никаких бумаг. Он сидел свободно, подперев рукой голову, и рассматривал вошедших. Офицер-историк, с аккуратной тетрадью, в которую время от времени он что-то записывал, сидел слева от следователя. Ханан, как обычно, возился у генератора, стучал по нему рукой, пытаясь заставить его работать потише.
Я сел напротив офицеров. Следователь спросил, не подымая головы от бумаг:
— Про какой день ты хочешь рассказать нам, солдат?
— Про понедельник, — отвечаю. — С рассвета понедельника и до утра вторника.
Офицер что-то записал в своих бумагах и взглянул на меня вопросительно:
— Понедельник? Какого числа?
— Что значит — какого числа? — поразился я. — Понедельник! Второй день после Судного Дня! Какой еще может быть понедельник? На исходе Судного Дня мы сели в танки. В воскресенье — поднялись на Голаны в направлении перекрестка Васет. Перед вечером получили приказ идти как можно быстрее в Нафах, туда, где горят наши танки. Оттуда на рассвете в понедельник двинулись к каменоломне. Что это за вопрос: какого числа?
— Прости, но мы обязаны указать число, — извинился офицер. Он сверился с карманным календарем и что-то записал. — Теперь, пожалуйста, рассказывай.
Офицер-психолог поинтересовался, как меня зовут, и попросил говорить медленно, не опуская никаких деталей — даже тех, что кажутся мне второстепенными и маловажными. Ему все важно.
Офицер-историк не сказал ничего.
Я начал без каких-либо предисловий и ни разу не остановился. Офицеры сидели напротив и смотрели на меня с непроницаемыми лицами и отстраненными взглядами, время от времени делая записи. Я внимательно всматривался в их ничего не выражающие глаза, пытаясь понять лишь одну вещь: верят или не верят. Не понял. Они словно опасались чем-нибудь себя выдать. Только сидели и слушали. Я рассказывал:
Читать дальше